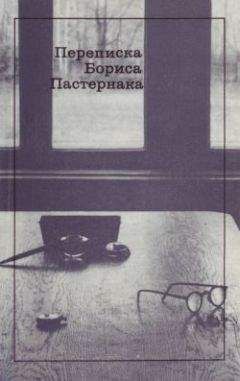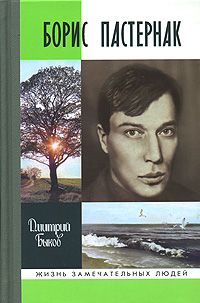(куда живым — не сметь) — мой внук и прадед, —
пережидает, пока я умру.
Я с ним вдвоём живу. Мы существуем,
когда нет ни души. Гремит беда,
как будто канонада. Он спасенье,
я белоусто вымолвлю: спаси,
мой Боже. Упаси на миг,
а после я, очнувшийся, спасу
и сам себя. Себя же самого.
Он хочет выйти из меня. Стремится,
меня спасая, истребить дотла,
чтоб на сквозных порывистых ветрах
я вышел из себя же сам, как сабля
идёт из ножен. Хочет выйти прочь,
чтобы погасла свечка боли, тьма
покорности чтобы меня спасала
иною жизнью, инобытием,
иным именованьем, не моим:
вот правит чем тот исступлённый Бог,
который норовит во мне родиться
(а я украдкой свечку засвечу,
чтобы вокруг до времени не смерклось,
пресветлый путь и чёрная свеча
сверкает, словно тайная победа).
* *
*
Бальзаку, заздри, ось вона, сутана,
i тиша, i cамотнiсть, i пiтьма!
Щоправда, кажуть, спати надто рано,
ото й телющиш очi, як вiдьмак,
на телевежу, видну по рубiнах,
розсипаних, мов щастя навiсне.
Отут i прокидається умiння
накликати натхнення, що жене
од тебе всi щонайсолодшi мрiї
i каже: вiщий обрiй назирай,
де анi радостi, анi надiї.
То твiй правдивий край. Ото твiй край.
*
Бальзак, завидуй, вот она, сутана,
и тишь, и одиночество, и мрак!
Но, правда, спать наказывают рано,
вот и лежишь, уставившись впотьмах
на телебашню: яркие рубины
в ночи сверкают счастьем подвесным.
Уменье подступает, как лавина, —
накликать вдохновение, что сны,
мечты твои сладчайшие изгонит;
шепнёт: смотри на вещий горизонт,
где нет надежд, где в горе радость тонет.
Таков твой край. Твой подлинный оплот.
* *
*
Хтось чорний-чорний бродить довкруги,
із ніг до голови мене обзирить
і, не впізнаючи, уже й не вірить,
що все це я — угнався в береги,
як грудка болю, пам’яттю розмита,
живого срібла озеро нічне.
I зводить подив око ненасите:
адже ж він мертвого шукав мене.
Душа колотиться і стогін колобродить,
на тихий шепіт перетерся крик,
хтось чорний-чорний ніби мною водить,
я ж припроваджуватися не звик.
Мов лялечка, прозорою сльозою,
своєю тінню, власним небуттям
я відчуваю власну смерть — живою,
як і загибель — самовороттям.
*
Здесь чёрный-чёрный вкруг меня бродил
и, с ног до головы обшарив взглядом,
не узнавал, не верил в то, что рядом —
я, всё же я — у берега застыл,
комок из боли, памятью размытый,
живое серебро ночных озёр,
сверкнет смятенье взглядом ненасытным:
он ждал, что я мертвец, смотрел в упор.
Душа колотится, и стоны колобродят,
и в тихий шёпот перетерся крик,
здесь чёрный-чёрный кто-то мною водит.
Идти на поводу я не привык.
Что куколка, прозрачною слезою,
своею тенью, нежитью храним,
я ощущаю смерть мою живою
и гибель — возвращением моим.
* *
*
Наснилося, з розлуки наверзлося,
з морозу склякло, з туги — аж лящить:
над Прип’яттю свiтання зайнялося —
i син бiжить, як горлом кров бiжить!
Мов равлики, спинаються намети,
а мушля в безсоромностi цноти
нiяк не знайде барви для прикмети
твоїх надсад, твоєї нiмоти.
I шклиться неба вислiпла полуда —
тверда труна живих, як живчик, барв.
Бреде зоря — сновида i приблуда —
одержаний задурно щедрий дар.
А човен побивається об здвиги
повсталих хвиль, твердих, немов стовпцi.
…Пiдтале чорноводдя зелен-криги
займається свiтанням на щоцi. *
Наснилось, померещилось с разлуки,
застыло горем, холодом трещит:
над Припятью рассвет розоворукий —
и сын бежит, как горлом кровь бежит!
Улитками размётаны палатки,
но раковин бесстыден перламутр
и целомудрен — не найдёт украдкой
оттенка для твоих надсадных утр.
Блестит бельмо небес стеклом узорным —
могила-твердь пульсирующих барм.
Бредёт заря, сновидец беспризорный,
задаром обретённый щедрый дар.
А лодка бьётся в твёрдых волнах, бродит
по вздыбленной торосами реке.
…И талый зелен-лёд на черноводье
скупым рассветом брезжит на щеке.
* *
*
Вона i я подiленi навпiл
мiстами, кiлометрами, вiками.
Озвалось паровозними гудками
твоє минуле — iз кiлькох могил.
I одмiнився день тобi. Поранок
цiдився крiзь шпарини домовин,
i там береза, i паркан, i ганок,
неназвана жона i мертвий син,
скоцюрблений од болю молодого
ще спередсвiта. I сльозу сльоза
повiльно побивала. Слава богу,
шо анi слова жоден не сказав,
лише зчорнiле серце пiк очима,
надсило спогади за душу тряс,
допоки я обличчям не погас,
старанно стертий тiнями чужими. *
Она и я: нас кто-то разделил
дорогами, веками, городами.
Вернулось паровозными гудками
твоё былое из сырых могил.
Вот брезжит скудный день. Рассвет твой блёклый,
процеженный сквозь прорези в гробах,
береза и забор, крыльцо и мёртвый
сын, болью юной скрюченный впотьмах,
жена ненаречённая. Слезою
так медленно настигнута слеза.
И слава богу, что лихой порою
никто вокруг ни слова не сказал,
я чёрный уголь сердца жёг глазами
и за грудки бессильно память тряс,
пока не спал с лица и не погас,
старательно чужими стёрт тенями.
* *
*
Пам’ятi Алли Горської
Заходить чорне сонце дня
i трудно серце колобродить.
При узголiв’ї привид бродить.
Це сон, ява чи маячня?
Це ти. Це ти. Це справдi ти —
пройшла вельможною ходою
i гнiвно блиснула бровою.
Не вистояли ми. Прости,
Прости. Не вистояли ми,
малi для власного розп’яття.
Але не спосилай прокляття,
хто за державними дверми.
Свари. Але не спосилай
на нас клятьби, що знов Голгота
осквернена. Але i потай
по нас, по грiшних, не ридай.
*
Памяти Аллы Горской
Вот солнца чёрного закат,
и тяжко сердце колобродит.
У изголовья призрак бродит.
Сон или бред? А может, явь?
Да — это ты. Конечно, ты
проходишь поступью вельможной
и обжигаешь взором грозным.
Не выстояли мы. Прости.
Прости. Не выстояли мы,
малы для нашего распятья.
Но ты не посылай проклятье,
кто за державными дверьми.
Брани. Но нас не проклинай,
что вновь Голгофа смертью ранней