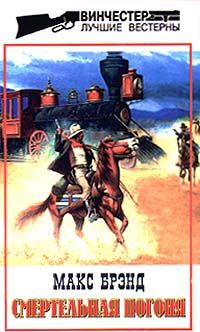Робер видел Ван Вельде лежащим и совсем раздетым. Сейчас он, во-первых, стоял, а во-вторых, стоял, слегка покачиваясь, в пижаме. А это меняло все. Этого-то Робер и опасался. Ван Вельде был совсем не высок. Маленький и рыжий. Маленький, рыжий, да еще с кривыми ногами. И ходил, как шимпанзе. Шел «на бреющем полете». Но Ван Вельде ни о чем не подозревал. Он машинально переставлял ноги, ведомый двумя меднолицыми верзилами. Он никого не узнавал, и весь его вид выражал полную отрешенность. Был такой миг, когда он встретился глазами с Робером, и в его зрачках зажглась какая-то искра.
«Может, он узнал меня? — подумал Робер. — Возможно ли? Чтобы он узнал меня, а я все еще присматриваюсь, я все сомневаюсь и не доверяю сам себе. Бреющий полет… Бреющий полет… Да. Его прозвали „Бреющий Полет“, я хорошо помню. Но кого именно прозвали?»
Он энергично помассировал себе лоб.
Предварительное испытание длилось дольше, чем у других. Эгпарс смерил артериальное давление, приложил несколько раз к груди стетоскоп: проверял сердце.
Робер понял, что Эгпарс все еще взвешивал шансы, прикидывал в уме, велик ли риск, и еще он понял, что эта последняя минута решала судьбу Ван Вельде. А судьба была здесь, незримым гостем Марьякерке.
Эгпарс медленно поднял нахмуренный лоб, медленно воздел к небу обе руки ладонями вверх, и, так как главврач был католик, этот жест мог означать только одно: «Господи, смилуйся».
И все пришло в движение.
Ван Вельде трепали, словно чучело на военных занятиях, где ему мнут бока и вспарывают брюхо. Правда, эти манипуляции носили вполне миролюбивый характер, однако было в них что-то, отчего больно сжималось сердце, тем более что человек, которого вертели и бросали, как куклу, оставался абсолютно безучастным.
— Ну взяли парня в оборот, — обронил Эгпарс, стараясь шуткой развеять тревогу.
И вдруг Ван Вельде очень четко выговорил:
— Мосье дохтор, а вы шкажете моей жене, што вы мне делали?
Эгпарс прикусил губу.
— Вот что значит слишком заноситься, — помедлив, сказал он. — Очень рад, уважаемые мосье, что вы получили доказательство несостоятельности наших умозаключений.
Эгпарс, который не споткнулся о свою ошибку, но сумел ее признать и даже показать другим, сразу стал на голову выше всех.
Не значил ли вопрос Ван Вельде, что он дурачил врачей? Что он симулировал помрачение рассудка? Робер вздохнул. Оказывается, не сам по себе электрошок страшен, — мертвая неподвижность лежащих не в счет. В ужас приводила эта механичность, отвлеченность происходящего. Самый ритуал подготовки превращал людей в механические детали, прежде чем они успевали лечь под ток. Себастьян Ван Вельде, с которого главврач не спускал глаз, в шоке был таким же, как все остальные. Тот же здоровый румянец на щеках после кислородной маски, то же умиротворенное выражение лица. Еще несколько тяжелых минут упало в тишину необычного дортуара.
— Мосье, — сказал усатый Эгпарсу, — он разговаривает.
Эгпарс положил руку на сердце больного и стал слушать, глядя перед собой невидящими глазами. Потом взял Робера за локоть и потянул к себе.
Ван Вельде не говорил, он пел. Он мурлыкал что-то веселое: вот вам и электросон! Робер побледнел, услышав мелодию.
Да, сомнений быть не могло. Это тот самый парень, которого прозвали Бреющим Полетом.
Рождество тридцать девятого года. Лотарингия, фламандская дивизия… Мальбрук. Весь в руинах, камня на камне не оставлено. И белые призраки, скользящие по снегу, — французские партизаны.
Эту «пешню» он узнал бы среди тысячи, пусть даже перекроенную и изуродованную, хоть приди она с того света, хотя бы из уст зомби.
А англикани-удальцы
Рога наставили парням.
Речь стала невнятной, как будто во рту была каша, путаной, затрудненной — электросон делал свое дело.
Друэн выручил его.
— Знаете, он что поет, мосье Эгпарс?
А англичане-молодцы
Рога наставили парням
И тем, кто с Северного моря,
И родом кто с Па-де-Кале.
— Ему и без англичан хватает, — хмыкнул один из санитаров.
— Все люди братья, — в тон ему ответил Робер.
Эгпарс следил взглядом за человеком, которого сейчас клали на койку, заботливо, как младенца, укутывая одеялом.
Оливье не сразу заметил, что Робер все еще стоит у кровати Ван Вельде, тяжело уронив, словно налитую свинцом, затянутую в перчатку правую руку, и затуманенным взглядом, широко открыв глаза, смотрит куда-то вдаль. Словно потревоженная сомнамбула. Словно человек, потерявший самого себя.
В декабре тысяча девятьсот тридцать девятого года Робер Друэн служил младшим лейтенантом в батальоне, занимавшем аванпосты возле лотарингского города Аглена Верхнего.
Лейтенант Друэн, выглядевший, кстати, моложе своих лет, затянутый в превосходно сидевший на нем, от портного из Пале-Рояля, мундир цвета хаки, который за три месяца службы в провинции немного потерся, Робер Друэн наблюдал за немецкими позициями, расположенными под прикрытием Буа-Гирх — Оленьего леса, как значилось в картах командования.
Перед молодым офицером простиралась промерзшая равнина, которая в трех километрах от него переходила в холмы, щетинившиеся елями. В ложбине приютились две деревни, а чуть дальше, слева, возвышались на одном из холмов развалины замка Мальбрук. Ансамбль радовал мягкостью линий, открывавшимся глазу раздольем, а также разнообразием красок; бронзово-зеленые тона переходили в нежно-серые, охряные и ярко-зеленые пятна склонов сменялись рыжими подпалинами у подножья бархатно-черных елей и сосен. Изредка над ничейной землей — no man’s land[15], — за которой следил младший лейтенант, пролетала ворона.
— Ничего нового! — сказал Робер, сжимавший в правой руке револьвер, а левой придерживавший у шеи концы башлыка, на который ввели моду солдаты колониальных войск.
— «Ничаго нового!» — передразнил Робера другой лейтенант, подражая северному говору. — А что это значит «ничего нового», Друэн? Фрицы занимают высоты, а мы сидим в норах!
Шарли, учитель с Севера, слегка заикаясь, сказал:
— Д-действительно, мы н-не знаем, чего хотим. — Он пожал плечами. — Вроде бы объявили им войну, а сами отходим без боя, оставляя выгодные позиции.
Офицеры обозревали в полевой бинокль окрестность, сейчас — самое время: на горизонте уже сгущается синева, а скоро станет совсем темно. Внезапно пронзительный свист заставил их броситься на землю. На Олений лес обрушился град снарядов, и еще долго под его сводами звучало эхо глухих разрывов. Снаряды рвались всего в каких-нибудь пятидесяти шагах от них.
— Сволочи! — прошипел Шарли. — Они з-засекли нас.
Стреляли осколочными снарядами, особенно опасными на ровной местности. Чуть-чуть уточнить наводку — и они окажутся под смертоносным дождем. Их дивизия стоит тут всего десять дней, им еще не приходилось попадать под обстрел, но нервы уже напряжены — врожденные рефлексы не дремлют. И тело раньше, чем голова, отреагировало на опасность.
Они поползли к ржаво-зеленому пригорку, который и скрыл их. До чего утомительно ползти, — с них сошло семь потов, прежде чем они добрались до цели. Но холм, усыпанный опавшей листвой, вряд ли мог уберечь их от осколочных снарядов, рвавшихся за спиной. Снаряды шипели, как прибывающий экспресс, и падали то спереди, то сзади. Но в основном били по участку, лежавшему правее. Им здорово повезло!
— Или они з-засекли нас, или просто душу отводят, — высказался Шарли.
И тут же несколько снарядов, выпущенных один за другим, разорвались в ветвях ели — в двадцати шагах от них, и дерево заскрипело и затрещало, совсем как в мирное время, во время валки леса; Робер и Шарли инстинктивно сжались. Рвущиеся снаряды — это когда вокруг вас урчит, свистит и стонет. Порожденные злой волей, они не знают снисхождения.
Теперь обстреливали другой участок, довольно далеко отсюда. Несколько секунд офицеры лежали, вслушиваясь, боясь ошибиться.
— А все из-за этих сукиных детей, наших артиллеристов. Я-то их знаю. К ним не подступись, «мы, де, сами с усами», «мы науку проходили». Если б они не лезли к фрицам с этой своей наукой, те давно оставили бы нас в покое!
Они скользнули за куст остролиста и тут только наконец смогли перевести дух. Здесь тоже видны были следы обстрела: деревья стояли словно освежеванные, из живых ран вытекал по капле сок.
— Это немцы нам на затравку, — сказал Робер.
Здесь их уже не могли заметить; они устроились поудобнее, лейтенант Шарли развернул карту, и они стали сличать с ней местность.
До сих пор они замечали лишь печальную красоту пейзажа, безбрежные лесные дали, и вдруг он показал им другое лицо — откровенно милитаристское. Эта высокая гармония, дышавшая тихой грустью, эти затканные черно-белым просторы вдруг обернулись дорогами, разводящими патруль, жерлами орудий, грудами мертвых тел; зловещее карканье воронья завершало картину.