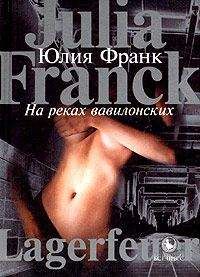Вошел какой-то мужчина, он пожелал женщинам веселого праздника и поблагодарил их за помощь в такой день. Женщины надели пальто. Он раздал всем помощницам маленькие пакетики и сказал, чтобы теперь они спешили домой, к своим близким.
— Ну что же, — сказала я Владиславу Яблоновскому, — пока, до вечера.
Я взяла масло. Передо мной в очереди стояла женщина, которая, видимо, помогала служившему в лагере священнику, она присматривала за детьми, ходила по его поручениям и гладила его белье. Она рассказала другой женщине, что одного человека из блока "Д" привезли из больницы обратно в лагерь. Ему не удалось как следует вскрыть себе вены, — он резал их поперек, а надо было вдоль. Потеря крови вызвала обморок. В таком состоянии его нашли полицейские, которые хотели побеседовать с ним о Грит Меринг, и которым пришлось открывать его дверь с применением силы, так как он задвинул эту дверь шкафом, а сам лежал на полу в неестественной позе. Его отвезли в больницу, и священник не смог отказать себе в удовольствии спустя три дня лично забрать его оттуда. При этом женщина должна была его сопровождать, как сопровождала порой, когда он отправлялся исполнять свои обязанности за пределами лагеря. Тот человек священника видеть не желал, он вообще никого и ничего не желал видеть, и свое разочарование из-за того, что ему не удалось уйти во тьму, выражал гробовым молчанием. Священник сказал, что не первый раз встречается с такой ситуацией, положил ему руку на голову и стал увещевать. На своем микроавтобусе "фольксваген" священник привез Пишке обратно в лагерь. Всю дорогу от больницы до лагеря он беседовал с Хансом и внушал ему, как прекрасна жизнь. Он сказал также, что теперь Ханс уже не будет одинок, что утром приехала его дочь, и он, священник, хочет, чтобы отец с дочерью провели этот день у него, в его служебной квартире, там есть чай и всякое печенье, а вечером они все вместе пойдут в столовую, где устраивается рождественский вечер. Ханс сидел в машине рядом с водителем и всю дорогу молчал.
Целый день шел снег, он падал крупными хлопьями, но не ложился.
Я сделала детям бутерброды с маслом и с солью и забралась к ним на нижний этаж кровати, они пожелали, чтобы я, как каждый год, почитала им сказку о Снежной Королеве. За окнами стемнело.
Потом я взяла Катю и Алексея за руки и пошла с ними в столовую. В освещенных окнах виднелись большие рождественские звезды, они мерцали красным светом, одна мигала — у нее явно отошел контакт. Какая-то женщина, вероятно, из руководства лагеря, стояла в дверях и приветствовала каждого входящего женщинам и мужчинам подавала руку, детей гладила по голове. Рядом стояли двое молодых людей и отвечали на вопросы, куда можно сесть и когда подадут еду. Глаза детей были прикованы к тарелкам с пестрыми бумажными пакетиками. Я то и дело видела, как чья-то маленькая ручка трогает пакетик, но не решается его взять. Неоновый свет холодно следил за собравшимися. Среди них ходил священник и своими белыми руками брал каждую руку, до которой мог дотянуться, обхватывал и словно бы взвешивал ее, все время повторяя: "Счастливого Рождества!" В передней части зала его жена строила детей в маленькую группу и пыталась по возможности пожать столько же рук, сколько ее муж. За одним из длинных столов, в дальнем углу у окна сидел Ханс. Я его заметила сразу, он сворачивал себе самокрутку. Он наклонил голову, и его залысины сияли белизной. Я невольно ощутила потребность сказать ему "да", выкрикнуть это "да" ему навстречу, через весь зал. Но он меня не спрашивал, и я подумала, что он не задаст мне вопроса, на который я могла бы так ответить. Из репродукторов неслись тихие рождественские песни. Держа за руки детей, я протиснулась через толпу и села за стол напротив Ханса.
— Как поживаешь?
— Поживаю. — Не глядя на меня, он лизнул бумажку и заклеил самокрутку. — Хочешь тоже? — Ханс протягивал мне самокрутку через стол.
— Нет, я курю лишь изредка. Сегодня — нет. Спасибо.
Рядом с Хансом сидела девочка с широким, немного одутловатым лицом. Ханс зажег сигарету. Светлая рубашка в узкую полоску, ткань которой была такой тонкой, что под ней четко обрисовывалась майка, подчеркивала его бледность и набухшие синеватые мешки под глазами.
— Ты плохо выглядишь. — Я протянула руку через стол и хотела дотронуться до руки Ханса. Но Ханс курил, держа сигарету обеими руками. На столах через каждые несколько метров стояли картонные тарелки, где на зеленых салфетках были веерами разложены пряники и пестрые пакетики, разложены в таком безукоризненном порядке, который никак не позволял, по крайней мере, на нашем столе, взять оттуда хотя бы одно-единственное печеньице и съесть. Ханс сидел наклонившись, — его голова казалась слишком большой для узких плеч, — опирался локтями на стол и держал сигарету обеими руками. В этом было что-то отталкивающее и одновременно трогательное. Насекомое, которое пьет нектар из чашечки цветка. Казалось, только у него в легких нектар превращается в плотный желтоватый дым, выходящий у него из ноздрей. Манжеты его рубашки слегка оттопыривались. Из-под левой выглядывал край бинта. Среди столов ходили женщины и разливали по картонным стаканчикам глинтвейн. Катя и Алексей то и дело оборачивались на переднюю часть зала, где жена священника построила детей по росту и поставила в два ряда. Алексей склонил голову ко мне на плечо, я обняла его. Ханс бросил взгляд на Алексея, а Алексей — на Ханса, потом Ханс погасил сигарету и скрутил себе новую.
Он снова протянул мне сигарету, но я покачала головой. Он взял спички, и две из них сломались, он зажег только третью.
— А я хочу, — сказала девочка с пепельно-русыми волосами и широким лицом, сидевшая рядом с ним, и протянула руку. Он позволил ей взять сигарету и, не глядя на нее, пододвинул по столу спички. Челка у нее была подстрижена ровно, точно по линейке. Ханс насыпал на бумажку табак из пакетика и своими желтыми пальцами свернул ее в трубочку.
— Это твоя дочь? — спросила я.
Ханс кивнул.
— Дорейн.
Дорейн была целиком поглощена сигаретой и явно не решалась поднять глаза на меня или на своего отца.
— Привет, Дорейн.
Дорейн не удостоила меня взглядом, она повернула голову и пыталась как можно дольше удержать дым в легких.
— Ее сегодня арестовали, но ты наверняка уже знаешь, — сказала я Хансу.
— Кого?
— Эту мнимую Грит Меринг. Наверняка это не ее настоящее имя.
Ханс пожал плечами, точно не знал, о ком я говорю, точно ему это было совершенно безразлично.
— Эта женщина якобы жила с тобой в одном доме. Это она распустила про тебя слух.
Алексей прижался по мне еще теснее.
Ханс совершенно спокойно сделал две затяжки, прежде чем его взгляд уперся в пепельницу.
— Какой слух?
— Ты знаешь, какой. — Я задалась вопросом, действительно ли Хнас не знал, что и кого я имела в виду. Похоже, он испытывал стыд, но не из-за тяготевшего над ним подозрения, — в самом деле, ведь известие об аресте этой женщины распространилось так же быстро, как и слух, который она распустила. Скорее ему казалось неприятным, что он сидит здесь, должен смотреть на других и позволять другим смотреть на него. Я старалась подавить кашель, пока глаза у меня не наполнились слезами и Ханс не стал казаться мне каким-то расплывчатым. Тихо и четко я сказала:
— Ханс, это же дискредитация. Преднамеренная. Она наверняка сама из госбезопасности.
В лице Ханса не дрогнул ни один мускул, он продолжал курить свою сигарету, пока от нее не остался такой маленький кусочек, что она стала обжигать ему пальцы, тогда он ее погасил. Собственная жизнь ему опротивела. Но как я могла его утешить? Он выдавил слюну сквозь передние зубы и при этом скривил рот, словно его тошнит. Я встала и погладила его по голове, а он отвернул голову.
— Оставь его, мама, он не хочет. — Алексей потянул меня обратно на скамейку. Он зашептал мне на ухо: — Разве ты не видишь, он не хочет здесь быть?
Я приложила руку к губам моего сына, чтобы он замолчал, и поцеловала его в лоб.
Неоновый свет на потолке погас, в репродукторах смолкли рождественские песни. Светились только гирлянды лампочек и рождественские звезды на окнах. Даже вокруг репродукторов были развешаны лампочки.
"С высей небесных спустился я к вам", — начал детский хор. Никто в зале не подхватил. Люди повернулись к хору. Мы тоже повернулись на скамейке и невольно оказались спиной к Хансу и его дочери.
— Дома у нас настоящие свечи, — сказала Катя и взяла меня за руку.
— Дома, — повторила я.
Хор смолк, собравшиеся захлопали, словно по приказу, свет на потолке зажегся опять. Вместо Деда Мороза появился мужчина в обычном костюме, с мешком на плече, в сопровождении женщины на высоких каблуках, в костюме и с островерхой шапочкой на голове. Мужчина в костюме поставил мешок на пол. Управляющая лагерем подула в микрофон и представила обоих посланцев Деда Мороза — господина доктора Роте и его жену. Они взялись за руки и отвесили короткий поклон. У себя за спиной я услышала шепот, прозвучало что-то похожее на "предательница", я осторожно обернулась, Ханс смотрел в стол перед собой, и было неясно, произнес он что-нибудь или нет. Только я хотела отвернуться, как он сказал: "Они же и тебя так называют". Я не поручилась бы, что он действительно сказал "предательница", кроме того, у меня не было уверенности, что он обращается к кому-то определенному. Я медлила. Я не хотела, чтобы со мной об этом кто-нибудь заговаривал.