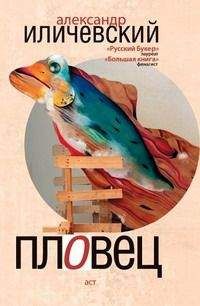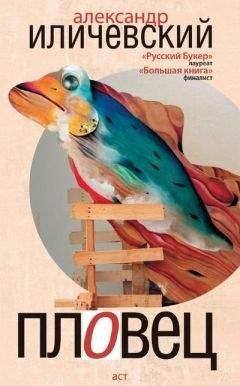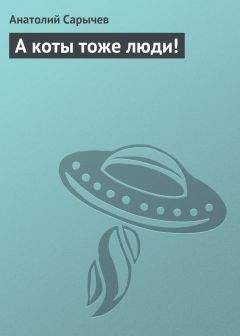Она протягивает ему Cricket (сверчок всегда при себе — зажечь конфорку, оживить бутон свечи на подоконнике или судорожно чиркнуть, осветить поделку копииста в анфиладе: твердые губы дожа, мозаика трещинок на запястье Данаи, разъятый рот Горгоны).
После они плывут в полной темноте, на запруженной палубе их теснят к перилам — то и дело украдкой взглядывает на нее, склоняясь к плечу, вдыхает запах — запах воды. Красивый, тонкой кости, чуть сутулый, с бешеным — одновременно открытым и невидящим — взором, он что-то говорит шепотом по-английски. Она молчит, наконец шепчет: «Non si capisce…» И тогда он подбирает слова по-итальянски: но фонетический пазл никак не складывается, ухо сатира расползается под копытом, шиповник распускается в паху, грудь нимфы выглядывает из пасти Олоферна: пазлы тасуются, рябят бессмыслицей, как отраженья фонарей на кильватере. Он замолкает, пальцами коснувшись ее запястья.
Математик, лет тридцать пять, профессор в Беркли, любимец студентов, ровный с начальством, часто колесит по миру. Иногда он приезжает в Венецию зимой, не в сезон — и живет каникулярный месяц, ходит по кофейням (безногие прохожие проплывают за высоким запотевшим окном, тычутся в стекло, как рыбы). Он придвигает дощечку с прищепленными листками, вынимает ручку (перо блеснится мальком), что-то выписывает: всего три — пять формул на страницу; подолгу взглядывает в жирную пустоту умозренья. В конце дня откладывает работу и прихлебывает желтые сумерки траппы.
Он живет в квартире на первом этаже, у самой воды, в ней стынут его рыбьи сны, он все время зябнет, кутается в плед, поджимает ноги, окурки гасит о мраморный пол.
Он отдал ей плед, подоткнул, сам мерз в кресле, тискал в ладонях стопу, подливал себе граппу. В носке сквозь дырку проглянул мизинец, словно чужой, ему не принадлежащий карлик — и она помертвела от отвращения…
Тем временем он напивается и сам себе о чем-то рассказывает, живо спорит.
Она уходит, а ему снится облако влажных простынь, всхолмия ягодиц, чуть дрожащих при движении, как она оглядывается поверх, винтом пуская поясницу, и он влечется по кровати, бесконечно преследует сновиденье.
Через день сама находит его в кафе, и теперь они встречаются каждый раз, когда старуха спит, но в квартиру ни ногой, такое ее счастье.
Наконец он грубо овладевает ею ночью, в галерее, ногти царапают сырую штукатурку: ртутный свет беснуется над ней, ярится звериным напором, она оглядывается, но никого не видит, каблуки подскакивают, стучат, уж скорей бы.
На следующий день математик покидает город.
Весь январь во время каждой прогулки украдкой она приближается к этой галерее. Встанет поодаль, заглядывает, ждет, не появится ли силуэт: плащ, треуголка, блеск зрачка за клювом.
XVI
…Пока следователь, отвернувшись, отставив ногу, уперев в дверь стопу, заправляет рубаху, затягивает ремень, проверяет пуговицы, пока он тасует, проверяя и оглядывая пол, бумаги — на четвереньках она подбирается, хватает со стола отмычки, выбирает самую длинную, со змеевидным острием, хищно прячет под подол, привстает, проседает, откидывается на поясницу — и двумя руками, с механической определенностью тычет, настойчиво достигая упора, проворачивает, что-то отпирает, дает чему-то ход.
Риккардо оборачивается, она протягивает ему связку, он понимает, что что-то произошло, но не терпит с глаз долой, достает платок, берет им отмычки — застывает… Он трусит позвать врача, она же не вымолвит ни слова — и сама услужливо обтерев, засовывает платок под подол, что-то там деловито подправляет, одергивает платье, разглаживает по бедрам, выпрямляется — она готова.
Больше на него не смотрит.
Следователь выглядывает в коридор, но тут же закрывает дверь.
Минуту стоит с закрытыми глазами.
Выглядывает снова, кашляет, машет рукой. XVII Горячая темень наполняет лоно, холодеют глаза. Она чувствует привычно, как тело освобождается от себя, как истончается ее существо. Ей это приятно, как приятно было вживаться в призрака, внимать его малокровной сути. Сознание встает на цыпочки и, пятясь, оставляет ее одну. Но зрение становится прозрачным для видения, и радость узнавания, с улыбкой на губах, позволяет удержать равновесие, пока тюремщица, приземистая женщиной с кротким лицом придерживает ее за локоть на лестнице, выводит на крыльцо, ведет через двор-колодец. Плющом увиты стены, три бабочки порхают друг за дружкой, увлекают взгляд тюремщицы в небо.
Сквозь туман Наде кажется, что кто-то еще — рослый, в мундире, идет рядом.
Она узнает яростный профиль.
Наконец Он вводит ее в свои покои.
Вот уже скоро.
Но прежде — внизу плавни скользят под бреющим крылом, тростники пылают половодьем заката, птицы куролесят последней кормежкой, крякают, ссорятся, чистят перья. Солнце окунается за берег, напоследок лижет подбрюшные перья, и вот клетка голых ветвей вырастает вокруг, она взмахивает крыльями, гасит налет, вцепляется в кору. Антрацитовый зрачок обводит округу, сумерки сгущаются синевой, смежается веко небосвода, ястреб прячет голову под крыло, чтобы никогда больше не проснуться.
XVIII
Запрос остался без ответа, и месяц спустя тело перевозят в крематорий. Катер швартуется у пустого причала. Блещет равнина воды, порыв ветра отворачивает простыню. Она смотрит вверх, подогнув колени, закоченев от боли, положив руку на солнечное сплетение — лежит тихо, упокоенная, с открытыми глазами, в которых стоит высокое небо, мутным пятнышком тает в рассеянном свете зрачка облако. Нет ничего увлекательней, чем следить за изменяющимися контурами облака.
Дорога волнится на стыках плит.
Машины скачут на юг, поджимая колеса.
Бетонный тракт вздыбливается к горизонту.
В предзимнем небе ползут шеренги низких облаков.
Кюветы полны ряски, рогоза. Черная вода подрагивает от капель.
Машины с зажженными габаритными огнями, унося яростный гул шин, мчатся в шарах из брызг.
Над перелеском стая скворцов полощется черным флагом.
С облаков свисают сизые клочья. Впереди тут и там они завешивают мокрую дорогу.
Еще два дня скворцы будут устраивать молодняку тренировочные полеты. Тело стаи на развороте поворачивается одним махом, не нарушая строя.
Темные поля сменяются светлыми лесами, леса подходят к реке, отступают над многоярусными косогорами, лесной ручей из глубокого отвесного оврага выбирается к песчаным наволокам, за ними длинно лысеет мель, две цапли стоят, стерегут осоку.
Дальше плес широко дышит зыбью. На его краю сильно раскачивается, запрокидывается красный бакен.
Светлый березовый лес восходит от реки по холмистым раскатам.
Величественная пустошь ниже по течению пересекается понтонным мостом.
В будке разводного буксира пьяный капитан обнимает худую красивую женщину в резиновых сапогах и новой телогрейке. Она плачет, безвольно опустив руки.
Два мальчика удят рыбу с понтонов.
Капитан прижимает жену к штурвалу, задирает ей юбку. Она покоряется, зная, что ничего у него не выйдет. Шепчет сквозь всхлипы: «Коля, Коля».
Штурвал раскачивается все слабее.
Мальчик подсекает голавля и, сжав в кулаке упругое серебро, снова зорко вглядывается в речной простор, раскрываемый излучиной.
На другой стороне, в тени моста, пригасившего напор стремнины, дрейфует лодка. Сухой хмурый старик поправляет на бортах весла и достает из-под скамейки сверток. Разворачивает из него несколько икон, ножом поддевает с одной оклад. Закуривает. Становится на колени на дно лодки. Отбрасывает папиросу. Запинается, неумело, начав с живота, крестится — и пускает с ладоней.
Дощечка сначала тонет (старик меняется в лице), потом всплывает в отдалении, но не полностью, слой воды в два пальца покрывает лик — и, увлекаема течением, по дуге выбирается на фарватер.
Женщина выглядывает из рубки, поднимает со швартовой тумбы сумку. На ее заплаканном лице теплится покой.
Стая уток невысоко, углом упруго режет воздух. Утиная перекличка тает над высоким гребнем леса.
Старик прячет оклад и начинает сильно, в натяг выгребать на середину. Потом вдруг бросает весла, ожесточенно вычерпывает воду из лодки. Снова хватается за весла.
В лесу падают последние листья. Семья барсуков катает ежа. Барсучки скулят и подскакивают. Еж шуршит, подкалывая на иглы кленовые пятерни.
На берегах листья облетают и скользят враскачку на теченье.
По колено и по локоть в воде, озябнув, дрожа синими губами, мальчик ощупывает лазы в камнях.
Прозрачный лик, несомый атмосферным течением вместе с паутинными парусами, постепенно нагоняет отражение в реке.
Старик, отстав, отворачивает и, потихоньку табаня, выгребает к берегу.
Женщина гладит заснувшего капитана по щеке. Она готова сама взять управление буксиром, в случае если придется разводить понтоны, давая ход идущей барже, — и посматривает на мигающий огонек рации.