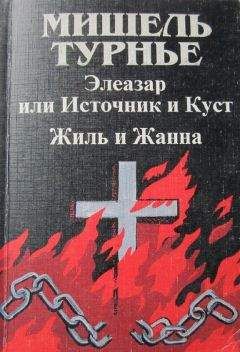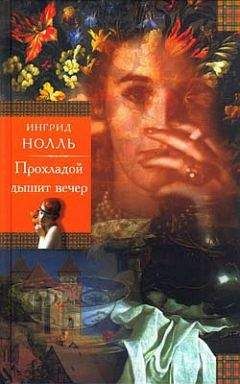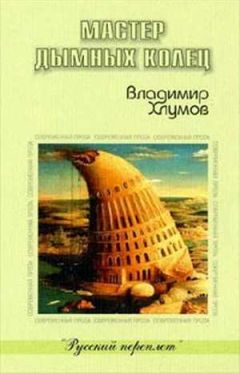Мысль купить дом под Москвой появилась давно. Однажды в отпуске мы две недели жили у Лехмуса. Стояла тихая золотая осень. Лиза сказала:
– Господи, как хорошо! Вот бы жить в таком месте!
И я понял, что хочу того же. Не то чтобы я не любил Москву, но после холодного каменного Норильска и Москва казалась каменной и холодной. Вот здесь бы и жить: в золотых березах и светлых мачтовых соснах. Чтобы по утрам будили лесные пичуги, а не машины и трамваи.
Лиза удивлялась:
– Откуда у нас столько денег?
Я объяснил:
– Это Москва. В Норильске за статью в «Заполярке» я получал рублей пять, здесь триста. За передачу на телевидении не сорок рублей, а полторы тысячи. Книга вот-вот выйдет, это ещё тысяч пять.
Книга вышла. Получше первой, но всё равно сервильная. Писатель во мне всё никак не мог одолеть журналиста, в лучшем случае получилась ничья. Но гонорар придал новый импульс поискам дома.
Поиски затянулись на два года. Я обреченно следил, как растут цены. То, что год назад стоило шесть тысяч, поднималось до десяти. Восемь тысяч превращались в двенадцать. Из холодной летней дачи каждую осень мы переезжали на зимнюю, тёплую, здесь же, в Загорянке. Она была поменьше, но дешевле. Хозяевам было важно, чтобы за домом кто-то присматривал. А каждую весну перебирались обратно. Поначалу весь наш скарб помещался в одну тачку. Потом пришлось делать по две и три ходки. А когда я наконец-то купил дом, в кузов грузовика даже не поместились мётлы, которых во множестве заготовил тесть.
Дом я нашёл в подмосковной Малаховке по объявлению. Участок в двадцать соток с соснами и старыми яблонями. Три большие комнаты с верандой внизу и три поменьше в мансарде. Но при первом взгляде на дом мне стало не по себе. Он был запущен до невозможности, я понял, что покупаю вечный ремонт. Но понял и другое: если сейчас промедлю, то уже не угонюсь за стремительным ростом цен.
Дом продавал ректор одного из московских институтов. Здесь жили его родители, старый отец умер, остались мать и её сестра, тоже немощные. Ухаживать за большим домом им было не под силу, а у ректора не было на это времени. Он запросил пятнадцать тысяч. У меня было только девять с учетом стоимости московской квартиры. Он согласился рассрочить платёж на год, но предупредил, что получить разрешение в поссовете будет непросто. Если смогу, тогда по рукам.
Позже его мать объяснила мне причину его уступчивости. На дом нацелилась торговка кладбищенскими цветами с большими связями с маленьким местным начальством, но сказала, что десять тысяч она заплатит, а дороже дом они не продадут никому, поссовет не даст разрешения. Я запасся ходатайствами от «Огонька», «Литгазеты» и «Крокодила» и выложил их перед членами поссовета. Бумага от «Крокодила» произвела сильное впечатление. Посовещавшись, постановили: разрешить покупку дома в порядке исключения.
– Не в порядке исключения, а просто разрешить, – запротестовал я. – Вы нашли основания для исключения, а райисполком не найдёт. И что? Напишите: отказать, а я найду, где ваше решение обжаловать как незаконное.
«В порядке исключения» вычеркнули. Дом стал моим, а я целый год радовался не большим гонорарам, а маленьким. Маленькие можно было тратить на жизнь, а большие сразу уходили в погашение долга.
Было очень жаркое лето 1972 года. Под Москвой горели торфяники. Вечером я смотрел из туалета во дворе на ярко освещённый, затянутый дымом дом и не верил, что мой дом. Тогда я сказал себе: хочу, чтобы из этого дома меня вынесли ногами вперёд.
Так оно, надеюсь, и будет.
Ещё в первые недели после возвращения из Норильска, когда я снял летнюю дачу в Загорянке и перевёз туда всё семейство, я уединился в крошечной комнатушке, приспособленной под кабинет, и написал в блокноте список дел, которые нужно сделать. Набралось пунктов десять. Первая же деловая поездка в Москву обернулось пьянкой в редакции с ребятами, которых не видел три года. Как тут не выпить? Так же кончилась вторая поездка. И третья. Через месяц список распух до двадцати дел. А ещё через месяц я перестал заглядывать в блокнот, чтобы не расстраиваться.
Старики смотрели на меня с испугом, а Лиза с тихим ужасом, так часто я не пил даже в Норильске. Только маленький Дмитрий Викторович беззаботно гукал в коляске, которую катал по двору тесть, и моргал голубенькими глазенками. Лиза не сказала мне ни слова упрёка, но я чувствовал, как свинцовая тяжесть ложится ей на сердце.
Утром 10 октября 1970 года я вылил в раковину всё, что осталось от вчерашнего, и объявил, что завязываю. На пять лет. И ничего не пил, даже пива, ровно пять лет, день в день, выдержав мощный напор недоумений, насмешек и призывов завершить пятилетку в три года, а еще лучше в один год.
В Москве к моей дури постепенно привыкли, а в Норильске, куда я прилетал в командировки, это было полной неожиданностью. Каждый мой приезд был хорошим поводом для полнометражной пьянки, которую не останавливало моё в ней неучастие. Впервые в жизни я получил возможность наблюдать дружеское застолье со стороны: как образованные и неглупые люди постепенно превращаются в косноязычных пошляков с идиотскими шутками, беспричинным хохотом и бессвязными разговорами. На другой день они говорили: «Как душевно мы вчера посидели!» А я думал: видели бы вы себя! Неужели и я бывал таким? Конечно, таким, а каким же ещё?
10 октября 1975 года в Сандунах я выпил первую за пять лет кружку пива. И не понравилось. Потом ничего, привык, снова вошёл во вкус.
Эти пять совершенно трезвых лет были моим нечаянным подарком Лизе. Надеюсь, когда-нибудь мне это зачтётся.
Я много работал, хорошо зарабатывал. Писал о Норильске. Три года жизни в нём, несравнимые по насыщенности со всей моей предшествующей жизнью, словно бы обесценили моё прошлое. Я был переполнен Норильском, как бывает переполнен впечатлениями человек, впервые побывавший за границей. Даже начал писать роман, но понял, что до романа не дорос, и отложил наброски в архив. В последующие тридцать с лишним лет я много раз возвращался к ним и снова откладывал. Но теперь понял: если не напишу роман сейчас, то уже не напишу никогда.
После трёхлетнего отсутствия Москва неприятно удивила меня атмосферой всеобщего уныния. Те молодые журналисты и подававшие надежды литераторы, для которых выпивка из средства общения превратилась в образ жизни, выпали в осадок. Многие свалили за бугор по еврейской визе. Немногие ушли в диссиденты, подписывали письма протеста, указывая в них свои адреса, чтобы не затруднять КГБ поисками, их сажали в лагеря и психушки. Остальные впряглись в житейскую лямку, что-то писали по вечерам после службы, пристраивали в издательства свои рукописи по знакомству, с коньяками и кабаками. Рукописи становились в многолетнюю очередь.
Это были годы брежневского застоя, которое много позже стали называть золотым веком советской власти. А чем плохо? Зарплату ещё не задерживали, на пенсию можно было прожить, в провинции с продуктами постоянно случались перебои, зато в Москве было почти всё, «колбасные» электрички и поезда развозили продукты по всей России. Интеллигенция недовольна? Так она всегда всем недовольна, на неё не угодишь.
Я с уважением относился к диссидентам, но считал, что их бодание с властью обречено на неудачу. Советская власть казалась вечной, как вечная мерзлота. Её следовало воспринимать, как климат, и не бороться с климатом, а приспосабливаться к нему. Я приспосабливался, как мог. Конформизм был прочно вбит в моё сознание, как и в сознание моего поколения шестидесятников.
Уныние товарищей, небесталанных молодых литераторов, вызывало во мне раздражение, я ещё был переполнен энергией бурно развивающегося Норильска. Я пришёл в издательство «Молодая гвардия» и предложил идею коллективного сборника – документально-художественной книги о Норильске. Авторами должны были стать три прозаика, сатирик и поэт. Идею одобрили, Норильск был всесоюзной ударной комсомольской стройкой, издательство ставило себе хорошую галочку.
В бригаду я позвал прозаика Евгения Богданова, с которым когда-то жил в одной комнате в общежитии Литинститута. Вторым стал Борис Шустров. В 1956 году он был в числе добровольцев, приплывших в Норильск на теплоходе «Александр Матросов». Позвонил очень известному тогда сатирику Григорию Горину, но он уклонился и предложил вместо себя Андрея Кучаева, автора юмористических рассказов в «Литературной газете» и лауреата премии «Золотого телёнка». Моё предложение принял и поэт Евгений Лучковский. Его стихи мне не очень нравились, но он был свой, что-нибудь напишет.
Командировку нам дали в ЦК комсомола, и летом 1971 года мы вылетели в Норильск. Пробыли там три недели, из них десять дней проработали подручными плавильщиков в анодном цехе комбината, изучали жизнь. Жили в гостинице на Гвардейской площади, я с Богдановым и Кучаевым в «министерском» номере со спальней и большой гостиной с альковом. Позже я описал этот номер в пьесе о взрыве на руднике. Шустрова и Лучковского поселили в двухместном номере этажом ниже.