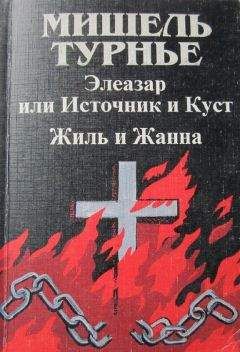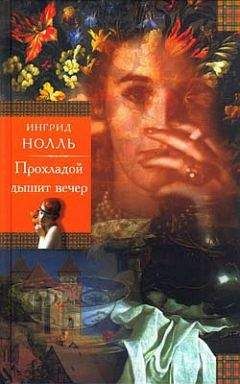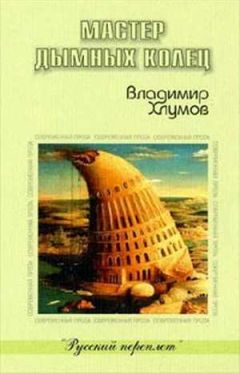А семейство в семь человек – это уже серьезно, только успевай поворачиваться. Я и поворачивался. Как мог.
В глухую осеннюю ночь то ли 79-го, то ли 80-го года, когда дом давно спал, за окном не лаяли даже голосистые малаховские собаки и лишь тяжелые поезда изредка нарушали угрюмую тишину, я сидел в своем кабинете и вчитывался в Стенографический отчет о ХХVI съезде КПСС, выискивая цитату, лучше бы Брежнева и лучше бы подлиннее, чтобы вставить ее в книгу, на которую потратил почти два года жизни. Она называлась “Золотое звено. Книга про Байкало-Амурскую магистраль, написанная ее строителями”. Это была самая больная из всех моих книг. Я и сейчас смотрю на нее с душевной мукой, как на изуродованного тупым акушером ребенка.
А как славно все начиналось!
Однажды я приехал в издательство “Молодая гвардия”, зашел к своей редактрисе (в свое время она выпускала книгу о Норильске “Шестьдесят девятая параллель” и была за нее обласкана начальством) и доверительно сообщил:
– Написал роман.
– Поздравляю, – без всякого воодушевления сказала она. – Большой?
– Большой. Двадцать листов. Хочу предложить его вам. Издадите?
– Ох, Виктор! Вы знаете, как я к вам отношусь. Но… Трудно. Бондарев свое собрание сочинений сунул вне плана, Лиханов толкает пятитомник. А мы же не резиновые.
– Вы не спросили, про что роман.
– Про что?
– Про БАМ.
– Быстро несите! Где рукопись?
– Я пошутил. Я еще не написал роман, только хочу написать.
– Но про БАМ?
– Про БАМ.
– Давайте заявку, поставим в план. И как только, так сразу.
– А если бы не про БАМ? – поинтересовался я.
– А про что?
– Ну, про любовь. Стали бы печатать?
– Про любовь на БАМе – да. Просто про любовь – нет. И не спрашивайте почему. Сами понимаете.
Конечно, понимал. Чего тут не понимать?
Про БАМ я заговорил не случайно. Незадолго до этого творческое объединение “Экран” Центрального телевидения заказало мне четырехсерийный художественный фильм на эту животрепещущую тему. Тематическую заявку одобрили, дали аванс и командировку в любую точку БАМа, чтобы я напитал сценарий живыми реалиями. Я рассудил, что если у меня будет четырехсерийный сценарий, то сваять из него роман не составит труда. И отправился в командировку. Для начала – в Звездный, так назывался первый притрассовый поселок на Западном участке БАМа.
Близкое знакомство с буднями бамовцев произвело на меня сильное впечатление. Эти ребята и девушки не “дорогу века” строили, они решали свои проблемы – одиночества, жизненного неустройства, избавления от безденежья, гнета коммуналок, родительского диктата. Они решали их сами, не надеясь ни на кого. Так было во все времена – и когда молодёжь ехала на целину, и на сибирские стройки или в Норильск. Из первой командировки я привез два десятка магнитофонных пленок. И уже тогда, расшифровывая их, понял, какую книгу напишу. В ней не будет ни одного моего слова, только рассказы бамовцев, непричесанные, без правки.
Последовали еще несколько командировок. И наконец книга была готова. Первой ее читательницей была молодогвардейская редактриса.
– Какую сильную книгу вы написали, – сказала она. – Я плакала. Она не пойдет. Только не спрашивайте почему. Но мы будем бороться.
Рукопись отправили в ЦК комсомола. Еще во времена работы в “Смене” мне приходилось иметь с ним дело. Странное заведение с сотнями откормленных молодых жеребцов и энергичных пожилых девушек. ЦК всегда напоминал мне сложный механизм, работающий на бешеных оборотах. Но не было приводных ремней, связывающих этот механизм с жизнью, он работал вхолостую, сам по себе. Но моя рукопись оказалась ему по зубам.
Через два месяца, погуляв по отделам, она вернулась в издательство. Сказать, что ее обкорнали, значит не сказать ничего. Были вычеркнуты не только самые сильные куски, заставлявшие мою редактрису, да и меня самого, плакать, но и эпизоды вполне нейтральные, мало-мальски живые. Из двенадцати листов осталось пять. К рукописи было приложено шесть страниц указаний.
– Книгу нужно спасать, – констатировала редактриса. – Добавьте очерковых кусков, навтыкайте цитат. Доведите хотя бы листов до восьми. Да что я вам говорю, вы сами знаете, что нужно сделать.
Конечно, знаю. Чего тут не знать.
И вот сижу ночью с карандашом в руках и тупо отмечаю места в Стенографическом отчете о XXVI съезде КПСС, которые можно воткнуть в книгу. И вдруг, как озарение, приходит мысль:
– Господи Боже, да что же я делаю?!
В “Смене” вместе со мной работала замечательная журналистка Тамара Илатовская. Маленькая, с виду жантильная, генеральская дочка. Но ум у нее был острый, мужской, и перо мужское, твердое. А цельности характера можно было только позавидовать. Никогда не забуду, какой скандал она устроила ответственному секретарю, когда он вставил в ее очерк небольшую цитату из речи Хрущева. Цитату сняли, а ответственный секретарь после этого долго еще старался не попадаться ей на глаза.
Скандал она устроила из-за небольшой цитаты. А я сижу и выискиваю цитату побольше. Что со мной? Во что я превратился? Чем я, твою мать, занимаюсь? И самое главное: почему при этом я не чувствую себя говном?
И вот тогда, в ту осеннюю ночь, я понял одну очень простую вещь. Я давно уже не занимаюсь творчеством. То, чем я занимаюсь, к творчеству не имеет никакого отношения. Финансовая деятельность – вот как называется то, чем я занимаюсь. Говоря сегодняшним языком – бизнесом.
Нет, через некоторое время поправился я, все-таки нет. Я занимаюсь делом, которое всегда было выше любого творчества: я борюсь за свою свободу.
С тех пор и борюсь. И борюсь, и борюсь, и борюсь.
И сегодня, издав без малого три десятка самых разных книг, в том числе несколько заказных, подпольных, и не став ни знаменитым (это бы ладно), ни богатым (что огорчительно), вижу главное своё жизненное достижение в том, что практически никогда не высиживал на службе с девяти до шести и не вскакивал по будильнику.
Жизнь удалась?
Когда два человека решают создать семью, они редко задумываются, что тем самым соединяются два рода, как две реки, каждая со своим нравом. С родителями Лизы у меня никаких разногласий не возникало. Тёща иногда так допекала Аполлона Ивановича придирками, что он начинал материться и лез на неё с кулаками. Я предупреждал:
– Не прекратите, начну пить.
Действовало безотказно. У Лизы с моей матерью отношения поначалу не складывались. Трудная жизнь с эвакуациями в годы войны и постоянными заботами, как меня прокормить, приучили её к бережливости, которая с годами стала болезненной. В Ленинграде она могла по часу мерзнуть на остановке в ожидании трамвая, потому что трамвай три копейки, а троллейбус четыре. Она была недовольна тем, как Лиза распоряжается семейным бюджетом, слишком много тратит на еду. Старые вещи никогда не выбрасывала, а тащила к себе в комнату, отчего комната становилась похожа на лавку старьёвщика. А три хозяйки на одной кухне – это ни к чему хорошему не приводит.
Лиза никогда не жаловалась мне на свекровь, но я видел, чего ей стоит сохранять спокойствие. Нужно было что-то делать.
У меня на участке был старый сарай, который со временем я превратил в баню. К бане пристроил пятнадцатиметровую комнату, в неё охотно переселилась мать. Она стала жить совершенно автономно, конфликты прекратились.
С семьей отца мы долгие годы не соприкасались, только иногда я обменивался с ним письмами. После того, как мать отправила меня к нему на перевоспитание, у него в посёлке я прожил пять лет, до окончания школы. Отец преподавал в школе химию, он был кубанский казак, высокий, грузный, с красным лицом и всегда взъерошенными седыми волосами. Тем, что он кубанский казак, он почему-то очень гордился. Когда я очень раздражал его своей расхлябанностью, говорил: «Твой прадед полковник Афанасий Левашов Переяславскую Раду с Богданом Хмельницким подписывал, а ты…» И так он меня этой Радой достал, что однажды в Ленинграде я поехал в публичную библиотеку, потратил полдня и получил Переяславную Раду. Никакого полковника Афанасия Левашова в ней и близко не было.
Жена у него, учительница биологии, была маленькая, сухонькая, довольно язвительная. Познакомились они в Магнитогорске, отец был там директором школы и членом бюро райкома партии. Потом произошла какая-то история с Янукиндзе, как я понял – крупным партийным деятелем. За связь с врагом народа отца сняли с работы и исключили из партии. Всё шло к тому, что его арестуют, но мачеха проявила решительность, срочно увезла его к своим родственникам в Москву. Оттуда он ушёл на фронт, а после демобилизации вернулся на Кубань. Когда Сталин умер, его восстановили в партии с сохранением стажа, это сделало возможным его назначение завучем.
В студенческие годы я пару раз приезжал к нему на каникулы, после окончания института у него не был ни разу, всё как-то не получалось. Наша переписка носила странный характер. Всё, что я делал, ему не нравилось. Уволился с «Североникеля» – дурак, пять лет учёбы коту под хвост. Стал газетчиком – глупость, чего там можно добиться? Поступил в Литинститут – зачем, у тебя уже есть высшее образование. Если хочешь стать писателем, нужно было оставаться инженером, когда-нибудь написал бы «Сталь и шлак». Этот роман Попова, за который дали Сталинскую премию, он считал вершиной советской литературы. Мои книги, которые я ему посылал, он не читал. Ждал, когда я напишу «Сталь и шлак». Женился – дурак, рано. Развёлся – так порядочные люди не поступают. При этом сам был женат раза четыре. Кроме меня и Юрия, у него были сын и дочь от какого-то другого брака. В юности меня удивляло, как это моя сводная сестра может быть всего на пять месяцев младше меня. Своих детей у него с мачехой не было.