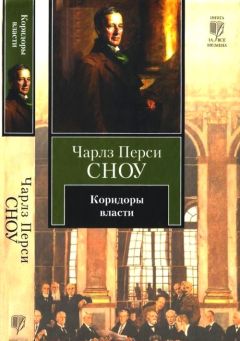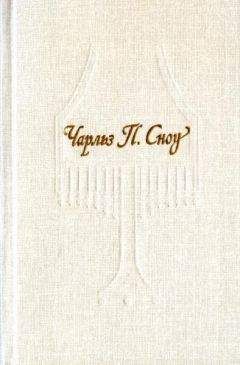Впрочем, чувства мои не ограничивались злостью. К злости примешивалось нечто новое (или хорошо забытое старое), а именно навязчивое, галлюцинаторное какое-то ощущение слежки. Например, когда я попросил соединить с Кембриджем, в трубке послышались звуки, характерные для прослушиваемых телефонов. Щелчки и позвякивания показались гипертрофированными, словно в результате подключения усилителя.
В последующие дни ощущение не отпускало. Вспомнились слова одного иммигранта. Цена, много лет назад говорил этот человек, состоит в том, что всю оставшуюся жизнь мысленно мусолишь действия, которые до изгнания выполнял не задумываясь, как дышал. Теперь я понял, что он имел в виду. Подкатило такси — и я поймал себя на том, что кошусь по сторонам, не следит ли кто. Смеркалось, однако силуэты деревьев были противоестественно четкие — кажется, я бы мог пересчитать все веточки до единой. Фонарь на крыше другого такси сиял как бакен.
В начале недели позвонила Эллен — ей пришло очередное анонимное письмо. Они с Роджером хотят со мной посоветоваться. Снова будто выплеснули с неба ярчайший, беспощаднейший свет. Мы стали обсуждать место встречи; нам казалось, доводы наши разумны, сами мы адекватны — но мы частично ошибались. Мы были во власти тайны, людям это свойственно, тайна действует гипнотически. Вот так же мы с братом, еще в войну, взбудораженные тем, что узнали, пошли в Гайд-парк из боязни быть подслушанными.
В итоге мы поодиночке переступили порог паба на набережной Виктории. Ощущение было, что я снова молод и без гроша, подругу некуда привести. Я пришел первым, паб почти пустовал, и занял столик в углу. Вскоре явился Роджер. Я заметил: несмотря на то что фото его регулярно публикуют в прессе, никто Роджера не узнает. В дверях показалась Эллен. Я встал, проводил ее к столику.
Эллен, по обыкновению, приветствовала Роджера настороженной полуулыбкой, но лицо ее светилось изнутри, белки глаз были чисты, как у ребенка. Я подумал, нервное напряжение, подозрения ей на пользу, она будто силы из них черпает. Подавленным казался Роджер. И все же, пока я читал анонимку, он взглядом буквально ощупывал мое лицо.
Почерк прежний, только словам будто тесно в строке; тон сменился на угрожающий («у вас очень мало времени на то, чтобы заставить его изменить решение»), и впервые прослеживается желание оскорбить. Странный привкус у этого желания — будто пишущий, изначально имея цель сугубо деловую, вдруг про дело забыл и теперь занимается шантажом из любви к искусству, как отморозок, что выцарапывает непристойности в общественном туалете. Помешательство глядело сквозь строки, как сквозь ненадежные жалюзи, стеклянными, немигающими глазами.
Мне не хотелось дочитывать, я почти бросил письмо на стол, тоже стеклянный.
— Что, Льюис? Что? — воскликнула Эллен.
Роджер обмяк на стуле. Как и я, он был шокирован; в то же время мне казалось, что я во власти стереотипа, что здесь вовсе не шок имеет место. Роджер выдал явно заготовленную фразу:
— Одно не вызывает сомнений — этот гражданин нас недолюбливает.
— Я дальше терпеть не намерена, — заявила Эллен.
— А что нам остается? — Роджер будто урезонивал ее.
— Остается начать действовать. — Эллен обращалась ко мне — или нет, взывала ко мне. — Вам не кажется, что пора действовать?
Я вдруг понял: они впервые не единодушны. Потому и меня позвали. Эллен хочет, чтобы я принял ее сторону; Роджер, подавленный, с целым набором трезвых доводов в пользу дальнейшего бездействия, полагает, что мой долг — поддержать его.
Он говорил с осторожностью, но властно. Медленно подбирал слова. Не похоже, говорил Роджер, что угрозы возымеют последствия. Не тот человек, не тот случай. Не будем обращать внимания. Притворимся, что нам все равно. Подумаешь, шантаж — это не смертельно.
— Тебе легко говорить, — возразила Эллен.
Роджер поднял на нее взгляд. Неправильно, мягко сказал Роджер, предпринимать какие бы то ни было шаги, если не представляешь, к чему они приведут.
— Этого человека можно остановить, — упиралась Эллен.
— Откуда такая уверенность?
— Можно обратиться в полицию, — бросила Эллен. — Полиция тебя защитит. Тебе известно, что шантажистам дают до полугода?
— Известно. — Во взгляде Роджера появилось некоторое раздражение, как на ребенка, что битый час корпит над элементарной арифметической задачкой. — Но я не то положение занимаю, чтоб появиться в суде в качестве свидетеля Икс. В свидетели годятся только личности никому не известные. Из меня мистер Икс не выйдет.
С минуту Эллен молчала.
— Да. Конечно. Ты прав.
Он накрыл ее ладонь своей.
Скоро, однако, Эллен снова вспыхнула.
— Ладно, на полиции свет клином не сошелся. Как только Льюис назвал мне имя, я поняла, что этого человека можно остановить. Замолчит как миленький. Дело касается меня, вот я и займусь. — Глаза ее горели. Она неотрывно смотрела на меня. — Что скажете, Льюис?
Я выдержал паузу и ответил, глядя на Роджера:
— Риск, конечно, есть. Впрочем, мне кажется, действительно пора переходить в наступление.
Я постарался, чтобы это прозвучало максимально взвешенно; кажется, я никогда еще так не хотел убедить кого бы то ни было в чем бы то ни было.
Роджер говорил разумно. Эллен в не меньшей степени наделена здравым смыслом, но она слишком активна, из-за вынужденного бездействия теряет осторожность. Я мог бы догадаться. Пожалуй, я отчасти догадался, однако моя собственная осторожность улетучилась, и по причинам более многослойным, чем причины Эллен, и куда более заслуживающим порицания. С возрастом я научился выжидать. Своим влиянием на людей вроде Роджера я отчасти обязан уверенности этих людей в том, что я человек несгибаемый и упорный, но качества эти далеко не врожденные и вообще едва ли не мнимые. Я от природы импульсивен, эмоционален, внушаем. Благоприобретенное впечатление этакой глыбы пришлось мне впору, я ношу его не снимая; первая натура покрыта им, но будет выявлена по шелковистому отливу, случись в покрытии потертость. Это опасно и для меня, и для моего окружения, ведь мои вспышки, внезапные увлечения или просто причуды, пропущенные через фильтры публичности, уже и мне кажутся обезвреженными; я хотел бы к этому знаменателю и остальные свои черты привести, но до сих пор не получается, несмотря на полные пятьдесят лет. Прорывы бывают нечасто, я начеку, но все же бывают. Прорыв случился и в тот вечер. Никто, кроме Маргарет, не знал, что с самого разговора с Роузом я пестовал ярость. Как и Эллен, я пришел в паб жаждущим активных действий. В отличие от Эллен я не выдал этой жажды ни тоном, ни мимикой. Из-под нескольких слоев терпения, оговорок, всевозможных ухищрений самодисциплины жажда активных действий показалась Эллен и Роджеру взвешенной рекомендацией человека опытного и благоразумного.
Мы все, продолжал я, находимся под прицелом. Конечно, в амортизации выпадов, в демонстрации намеренного бездействия немало преимуществ. Например, демонстрация намеренного бездействия вызывает у врага мысли об огромном вашем потенциале и, соответственно, некоторую острастку. Однако нельзя бездействовать до бесконечности, иначе беспокойство врага постепенно пройдет и вам светит удел боксерской груши. Секрет в том, чтобы до поры затаиться, грамотно выбрать момент — и сделать свой единственный выпад. Возможно, такой момент настал — или вот-вот настанет. Мерзавец безошибочно выбрал целью Эллен — сообразил, как больнее уязвить. Если он только орудие в чужих руках — насчет чего мы пока не уверены, — «кукловодам» будет нелишне узнать, что на него нашлась управа. И вообще пора уже. Роджер уступил; поспорил немного для порядку — и уступил. Каро сказала однажды, что он невозможный упрямец, уступает исключительно в мелочах. За все время совместной работы мне едва ли один раз удалось убедить Роджера, и уж точно ни разу — переубедить. В пабе, за столиком, мне и в голову не пришло, что теперь я Роджера переубеждаю. Я верил в то, что говорил. Внезапно я понял: мы трое больше не спорим, отражать выпад шантажиста или не отражать, мы обсуждаем способы отражения.
Позднее, когда все закончилось, я не единожды задавался вопросом о степени своей ответственности. Возможно, я был к себе чересчур снисходителен — но полно, действительно ли в тот вечер значение имели мои слова, а не желание, или, точнее, мольба Эллен? Единственный раз Роджер захотел отстраниться, уступить, сделать по ее воле. В тот вечер он производил нехарактерное для него впечатление человека уклоняющегося — уклоняющегося не столько от нервотрепки, сколько от покоя, пусть сомнительного. По большей части отмалчивался. Наконец произнес своим «парламентским» тоном, как Америку открыл:
— Если он перестанет подавать признаки жизни, это существенно стабилизирует ситуацию.