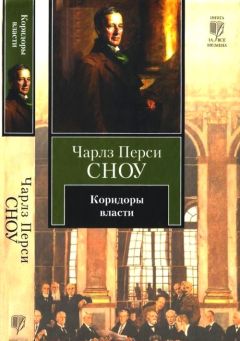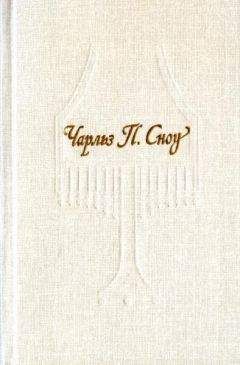Что касается меня, я плохие новости выслушивать люблю не больше Роджера. Однако в следующие две недели я обзванивал знакомых и использовал свои клубы по назначению, забытому со дня женитьбы на Маргарет. Знаков набралось негусто, да и насчет направленности этих, малочисленных, я не был уверен. Бредя по Пэлл-Мэлл ветреным, пронзительным январским вечером, я думал, что в целом ситуация всего на каких-нибудь полтона хуже ожидаемого. Я поднялся на крыльцо клуба, членом которого не состою, но в котором была назначена встреча с моим коллегой по Уайтхоллу. Человек этот возглавлял ведомство; уже через несколько минут беседы я ободрился. Из его торопливого объяснения — он поглядывал на часы, боялся опоздать на поезд (дома, в Ист-Хорсли, его ждали к ужину) — следовало, что наши шансы заметно возросли. В колоннаде я заметил Дугласа Осболдистона. Знакомый мой жал на прощание руку, я решил остаться — хотел перекинуться парой слов с Дугласом. До какой степени неуместен глагол «перекинуться», я понял, когда Дуглас вышел из тени. На нем лица не было.
Не успел я спросить, что стряслось, как Дуглас выдохнул:
— Льюис, я от тревоги себя не помню.
И почти обрушился на соседний стул.
— А что такое?
В ответ прозвучало одно слово — Мэри. Дуглас говорил о своей жене. Мэри, пояснил он, заболела. Кажется, опасно.
И тут его прорвало. Он описал все знаки и симптомы, описал в подробностях, почти смакуя эти подробности, — так больной о своем самочувствии рассказывает. Недели две назад — нет, одиннадцать дней назад, уверенно поправился Дуглас, — Мэри пожаловалась, что у нее в глазах двоится. Она держала сигарету в вытянутой руке — а видела две сигареты рядом. Они оба тогда посмеялись, Мэри и Дуглас. Им было хорошо вдвоем. Мэри никогда на здоровье не жаловалась. А через неделю она сказала: не чувствую левой руки. Они переглянулись, лица обоих на миг исказило страдание. «Я с самого начала, как мы поженились, мог понять, страшно ей или нет. И она насчет меня понимает», — пояснил Дуглас. Мэри обратилась к своему врачу. Врач не сумел ее успокоить. Двое суток назад она встала со стула — и не почувствовала ног. Обеих. «Она теперь ходит как на протезах!» — выкрикнул Дуглас. В то же утро ее в больницу забрали. А он готов на стены лезть. Идет обследование, первые результаты будут дня через два, не раньше.
— Конечно, — продолжал Дуглас, — я задействовал лучших неврологов. Я с ними, считай, до вечера консультировался. — Его несколько утешало, что он может использовать влияние, положение, выяснить фамилии специалистов, распорядиться доставить этих специалистов к себе в кабинет на служебных авто. В тот день Дуглас забыл про былую скромность.
— Ты ведь понимаешь, чего мы боимся? — полушепотом спросил Дуглас.
— Не понимаю.
Я не оправдал его ожиданий. Описанные им симптомы были для меня что темный лес.
Даже когда он назвал предполагаемую болезнь, потрясло меня не само название, а тон.
— Мы боимся, что это рассеянный склероз. Ты, должно быть, читал о болезни Барбеллиона[13], — добавил Дуглас.
И внезапно зажегся необъяснимой надеждой.
— А может, никакой это не склероз, — сказал он бодро, будто чувствовал необходимость утешить меня. — Врачи сами не знают. Анализы не готовы. Не забывай: есть вариант, и не один, что это так, безобидное что-то.
У него был прилив радости, уверенности в будущем. Как скоро настроение изменится, бог весть. Я не хотел оставлять его одного в клубе, предложил поехать ко мне — Маргарет будет рада — или к нему, если в пустой дом возвращаться тошно. Дуглас улыбнулся по-своему, по-детски, но от предложения отказался.
— Он заверил меня, что все в порядке, ночью с ним ничего не случится. Сейчас посидит в клубе, на сон грядущий почитает что-нибудь душевное.
— Уж ты-то, Льюис, — добавил он, — должен знать: я не из тех, которые чуть что лезут в бутылку.
Это я сейчас прямо пишу, а Дуглас говорил намеками и будто в легком беспамятстве. На мое «Ну, будь здоров» стиснул мне руку.
В следующие несколько дней о Роджере отзывались все резче. Через неделю было назначено заседание парламента. Перед Пасхой Роджер и его сторонники запланировали прения по законопроекту. Как прочность положения Роджера, так и его намерения оставались предметом споров. Роуз, усиленно державший дистанцию, вообще отделался от меня вежливой улыбкой.
На четвертое утро после того, как я говорил с Дугласом в клубе, его секретарша позвонила моей секретарше. Не мог бы мистер Элиот немедленно зайти к мистеру Осболдистону?
Я все понял, едва переступил порог. Дуглас стоял спиной к окну. Выдавил в мой адрес «Доброе утро». Перевел дух. Продолжил:
— Ты тоже за нее волновался, да? — И выдохнул: — Новости плохие.
— Что, что врачи говорят?
— Нет, это не рассеянный склероз, как они опасались. Но это, — интонация стала обреченно-саркастической, — мало утешает. Совсем не утешает. Диагноз еще хуже. У Мэри заболевание центральной нервной системы, очень редкое. Течение предсказать практически невозможно. Велика вероятность, что Мэри осталось около пяти лет. Причем и эти пять лет она проведет в полном параличе.
Дуглас больше не пытался держать себя в руках.
— Представляешь, что значит услышать такое о женщине, которую любил, с которой был плоть едина? — И добавил: — Которую до сих пор любишь, и плотской любовью тоже?
Несколько минут я не мог вымолвить ни слова. Дуглас стал говорить, отрывисто, бессвязно.
— Мне надо ей сказать. Не сегодня завтра я должен сам ей сказать.
Потом:
— Она всегда была такая добрая. Всех любила. За что ей?
И еще:
— Если бы я верил в Бога, я бы ему пропуск в рай в рожу швырнул.
И дальше:
— Она хорошая.
И наконец:
— А должна умереть вот так. За что?
Когда он выдохся, я спросил, не могу ли чем-нибудь помочь.
— Нет, не можешь. Никто не может. — Затем, уже ровным голосом, поправился: — Прости меня, Льюис. Она захочет видеть друзей. У нее на это будет довольно времени. Она позовет тебя и Маргарет. Непременно позовет.
Помолчал и произнес:
— Ну вот, собственно, и все.
Голос был убитый. Затем Дуглас собрался с силами и добавил:
— Теперь к делу.
Взял со стола экземпляр законопроекта.
— Ну и каково твое впечатление, Льюис? Как все идет?
— А как ты думаешь?
— Меня другое занимало. Давай высказывайся.
— Насколько я помню, вселенского энтузиазма никто не ожидал.
— То есть цели мы не достигли?
— Имеются недовольные.
— Из того, что я уже слышал, можно сделать вывод, что «недовольные» — слишком мягкая формулировка, — подытожил Дуглас.
Фраза отдавала профессиональным присутствием духа. Дуглас беспокоился не из-за законопроекта как такового, а из-за толкования, которое уже припас Роджер, в соответствии с которым Роджер намеревался действовать, — Дуглас не хуже меня знал о его планах. Политика Роджера изначально отнюдь не импонировала его природному консерватизму. Лишь потому, что Роджер — сильный министр, у него до сих пор получалось проводить свою линию, а может, потому, что его способности не остались не замеченными и не оцененными Дугласом. Однако теперь Дуглас не желал ни одобрять политику Роджера, ни делать прогнозы. Он успешно избежал причастности к парламентскому запросу и, соответственно, возможного скандала; теперь ему не улыбалась причастность к возможному фиаско.
Он заставил себя временно забыть о личном горе, отогнал мысли о жене; новая забота заняла его ум.
— Пожалуй, действительно мягкая, — согласился я. При такой проницательности, как у Дугласа, даже попытки блефа исключены.
— Заниматься самообманом бессмысленно, — продолжил Дуглас. — Да ты и не будешь, я знаю. Есть определенная доля вероятности, что нынешняя политика моего министра с треском провалится.
— И какова эта доля?
Мы смотрели друг другу в глаза. Я не смог заставить Дугласа скомпрометировать себя.
— Пятьдесят на пятьдесят? — давил я. Это была моя тайная догадка, она предшествовала разговору.
Дуглас сказал:
— Надеюсь — очень надеюсь, — что у него хватит соображения уже сейчас подстраховаться. И взять новый курс. Главное, у нас этот курс про черный день имеется.
— Ты хочешь сказать…
— Я хочу сказать, нам придется начать альтернативную политику.
— Если об этом узнают — хлопот не оберешься.
— Не узнают, — отвечал Дуглас. — А начинать надо немедленно — и по всем фронтам. Времени в обрез. Наша задача — обдумать несколько вариантов развития событий и остановиться на самом оптимальном.
— Как раз тот случай, — заметил я, — когда сомнения в оптимальности меня не гложут.
— Рад за тебя.
На секунду обычная бесцеремонность вернулась к нему. Продолжал он уже с мучительным усилием. «Остановиться на самом оптимальном» сказал без пафоса, просто имел в виду, что курс должен быть, с учетом состояния общественного мнения, одновременно разумным и осуществимым. Предложил уже сегодня заняться черновиком этого курса, «просто посмотреть, как он на бумагу ляжет».