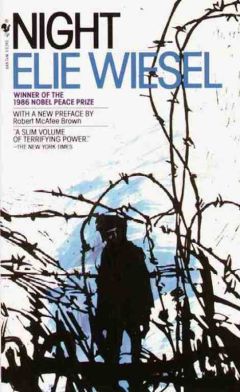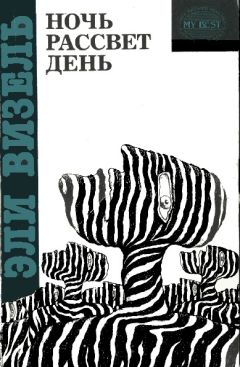Гамлиэлю было достаточно одного взгляда на больную, чтобы понять — конец близок. Глубокая кома, кислородная маска на лице, прерывистое дыхание не предвещали ничего хорошего.
— Это сердце, — сказала докторша. — Уже не выдерживает. Вечером у нее случился приступ. Весь ее организм изношен, вы же понимаете. Мне грустно за нее.
Склонив голову, она добавила:
— И за вас.
Гамлиэль подошел к кровати и стал всматриваться в хрупкую неподвижную фигурку, накрытую простыней.
— Она что-нибудь сказала во время приступа? — спросил он.
— Не думаю.
— А до того?
— Меня здесь не было. Дежурил другой врач.
— Вы не могли бы узнать у него?
Отлучившись на минуту, докторша вернулась с неутешительными известиями:
— Слишком поздно. Она была уже без сознания.
Значит, Гамлиэль никогда не узнает, кто эта женщина с изуродованным лицом, замкнувшаяся в своем молчании. Илонка? Возможно. В конце концов, старуха говорила по-венгерски. Значит, приехала из Венгрии. Но этого мало, чтобы определить ее личность. Докторша уже просмотрела ее бумаги: имя, несомненно, мадьярское, семейное положение — вдова, родилась в Австро-Венгрии, во времена империи… Все это не означало ровным счетом ничего. После войны можно было с легкостью купить или обменять любой документ. Личные вещи? Небольшая сумка, набитая одеждой и газетами. Несколько дешевых украшений. Какие-то безделушки. Писем нет. Две свечи. Нет адресов близких людей или знакомых в Америке.
— Она была мне очень дорога, — сказала докторша.
И тут же поправилась:
— Я говорю в прошедшем времени, а ведь она еще жива, простите меня. Наверное, все дело в привычке.
Они вышли в парк, но перед этим докторша попросила медсестру остаться при больной:
— Позовите нас, если что-то изменится.
— Мне тоже, — сказал Гамлиэль, — мне тоже больно за нее, и она мне дорога, сам не знаю почему. Не думаю, что встречался с ней. Я не знаю, кто она и откуда приехала. И почему пришел к ней по вашему приглашению. Разве что…
— Разве что?
— Разве что это Илонка.
И он повторил то, что уже рассказывал об этой изумительно человечной женщине, занявшей особое место в его детском сердце. В какой-то момент доктор Розенкранц взяла его за руку. Гамлиэль, погруженный в свои будапештские воспоминания, не отнял ее.
— У Илонки была необыкновенная душа, — сказал он.
— Можно ли иметь необыкновенную душу?
— Ей можно. И мне посчастливилось видеть ее так же, как я вижу вас.
Она сильнее сжала ему руку, а он, не зная почему, стал вдруг говорить то, что выдавало самые потаенные его мысли:
— Вы бывали в Будапеште? Когда-нибудь я вас туда отвезу. Покажу вам места, где я вырос под защитой Илонки, потом Толи. Кто знает? Быть может, Илонка ждет нас там…
— Если только…
— Да. Если только это не она сейчас наверху, в палате. Мы этого никогда не узнаем, правда?
— Скорее всего. Думаю, что уже слишком поздно, — ответила докторша.
Пораженный печалью в ее голосе и внезапным зарождением собственного желания, Гамлиэль быстро взглянул на нее. Спокойная красота докторши взволновала его именно в эти минуты, когда их соединил конец одной человеческой жизни. Он повернулся к ней, и в глаза ему бросились ее губы — чувственные, щедрые, готовые открыться и принести себя в дар. И его пронзила новая безумная мысль: а вдруг Илонка приехала сюда умирать для того, чтобы помочь ему обрести любовь к этой женщине и допустить ее в свою жизнь?
Они долго сидели молча. Потом встали со скамьи. Гамлиэль подумал, что докторша направится к больной, но та повела его на второй этаж, в свой кабинет, стены которого были увешаны дипломами, полками с книгами и журналами.
— Поговорите со мной еще, — сказала докторша. — Мне нравится, как вы рассказываете жизнь Илонки.
— Она была особенным человеком, — произнес он сдавленным голосом.
Привычное волнение, которое он так часто стремился подавить, вновь овладело им и стало душить. Была ли причиной близость докторши, чья рука бережно прикасалась к его лбу, затылку? Или ее тяжелое дыхание? Он ощутил выдох, прикосновение губ. Она нежно поцеловала его. Он ответил поцелуем на поцелуй.
— А теперь ничего не говорите, — приказала докторша, привлекая его к себе.
Смущенный Гамлиэль ощутил какую-то смутную вину: любить друг друга, когда где-то рядом, совсем недалеко от них, умирает Илонка? Впрочем, эта неизвестная больная почти наверняка не Илонка. И если это так, в чем может он упрекнуть себя?
Усталость и потребность забыться взяли верх над его сомнениями. Внезапно он ощутил некую умиротворенность. И даже не удивился этому. Подумал, в кои-то веки без горечи, что смерть других заставляет нас осознать собственный возраст. Для него наступила старость. Но разве не чувствовал он себя старым уже давно? Пишущий на иврите поэт Бялик говорил, что некоторые евреи рождаются старыми. Гамлиэль вспомнил еврейского журналиста, который во время войны, закончив статью об Освенциме, посмотрелся в зеркало и обнаружил, что внезапно поседел. Рассказывали также историю о молодом Мудреце Талмуда, за одну ночь обращенном в старика. Конечно, в бурной жизни Гамлиэля случались моменты, когда молодость вдруг возвращалась к нему — обычно это было связано с любовными приключениями. Но ему все чаще и чаще казалось, что жизнь осталась позади. Неужели так будет и сегодня?
Медсестра, постучавшись в дверь, сообщила, что конец близок. По лестнице они спустились бегом. Больная глухо стонала, грудь ее неритмично и еле заметно вздымалась, затем опадала. Гамлиэль спросил себя, больно ли ей. Словно прочитав его мысли, докторша успокаивающе произнесла своим мягким голосом:
— Ей уже не больно. Для нее сделали все, чтобы она могла уйти с миром.
Лили подала знак медсестре, и та сняла кислородную маску. Дыхание больной стало прерывистым. Потом прекратилось.
Гамлиэль склонился над ней и вгляделся в ее увядшее лицо, смутно надеясь обнаружить черты незабвенной Илонки: где-то он прочел, будто в последний момент смерть стирает морщины и ушибы, будто все маски срываются и исчезают. Но только не в этот раз. На лице безымянной старой венгерки осталась печать страдания.
Гамлиэль поцеловал ее в лоб. Ему захотелось сказать что-нибудь, но он не нашел слов. Правда ли, будто мертвые слышат то, что им не сказали? Он размышлял над этим вопросом, когда почувствовал руку докторши на своем плече. Она шепнула ему:
— Пойдемте, уже пора.
Он подумал: пора делать что? Жить с ней, в разлуке с Илонкой? Ждать, когда Смерть придет за ним самим? Кто будет оплакивать его? Не Катя и не Софи: их следы затерялись навсегда в других мирах и других временах. Друзья его, конечно, придут. Болек, Яша, Диего, Гад, Шалом — да, они будут помнить о нем. Ева? Возможно, и она тоже, на свой манер, не показывая этого Самаэлю. И докторша, если прежде согласится выйти за него замуж? И Эстер, которую он представлял себе бабушкой, играющей с дюжиной внуков? Какое это имеет значение, подумал Гамлиэль. В ином мире, мире Истины, другие свидетели будут вызваны на суд. А роман? Роман, который он начал так давно и чей замысел обрел наконец ясные очертания, четкую структуру, кто его завершит? Кто расскажет о продолжении спора между Благословенным Безумцем, этим новым воплощением рабби Зусья, и архиепископом Бараньи? Кто станет победителем? В самых глубинах души Гамлиэля родилась печальная уверенность: роман, который должен был показать — быть может, оправдать — то, что в реальности он хотел бы сделать из своей жизни, написан не будет. Ну и что же? Говорят, сын Маймонида рабби Авраам создавал книги, которые не дописывал до конца, и никто не сумел найти их. И все же. Разве не провозгласил Генри Джеймс: «Никогда не говори, будто тебе известно последнее слово касательно сердца человеческого»? Ведь даже сломанная судьба остается судьбой.
На следующий день, в пятницу, только Гамлиэль и Лили Розенкранц проводили старуху на еврейское кладбище при синагоге, с одним из управляющих которой Гамлиэль был знаком. Если это Илонка, подумал он, место здесь принадлежит ей по праву. В регистрационную книгу ее внесли как «умершую неизвестного вероисповедания», поэтому раввин на погребение не пришел. Но Гамлиэль счел возможным вознести за нее молитву:
— Господь, прими эту душу и утешь ее, ибо она была, возможно, безутешной. Подари ей покой, которого она здесь, наверное, не знала. Открой ей врата любви, которая, возможно, принесла ей слишком много мук. Ты знаешь ее, ведь Ты знаешь всех, кто живет и кто умирает. Скажи ей, что мы полюбили ее, хотя не знали, кто она, и что благодаря ей мы будем любить друг друга.
Внезапно Гамлиэль услышал «аминь». Это произнес высокий, худой старик с посохом странника, очень похожий на нищего. Не сомневаясь, что так подшутила память, Гамлиэль спросил: