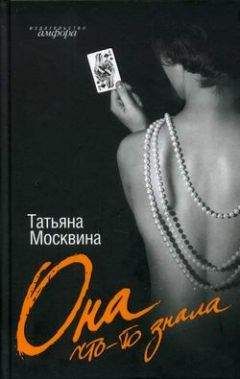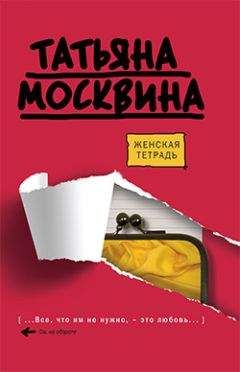– Вообще-то английский принц на русском троне всю геополитику перевернёт, – сказала Анна. – Это вы сильный ход придумали, Октябрь Платонович.
– Ура! – крикнул Огурчик. – За Октября! И за царя тоже!
– Порознь надо, – заметила Алёна. – Это одно, а то другое.
Выпили отдельно. За реальность (Октября) и за мечту (царя).
– Мираж это, – молвил за царя выпивший, а за Октября пропустивший, как-то нарочно замешкавшийся, отец Николай. – Блуд мысли. Театральщина…
– Кто знает, отец Николай? Революцию пролетарскую всяко было потрудней сделать, чем теперь принца Гарри на трон позвать, а вот учудили тогда, не поленились, – ответила Алёна. – Почему бы и нет? Денег хватит. Пусть пока готовится, русский учит. Потом в православие его окрестим, женим. Дворцы ему отдадим, вон в Питере дворцов навалом. Пусть красуется, парады принимает, больницы открывает. Правда, свои что-то поднадоели.
– Менеджеры, – усмехнулся Октябрь. – Сейчас, говорят, мы много и хорошо произведём, а потом дружно и весело съедим. А что потом? А потом, наверное, крупно покакаем. Где же мечта?
– Пустые твои мечты, – не утерпел отец Николай. – Фата-моргана.
– Мечты? Да в сравнении с тобой я злостный реалист. Ты вон веришь, что Иисус на землю придёт и мёртвых воскресит. Это, по-твоему, не фата-моргана, а прямо-таки послезавтра начнётся. В семь утра по Москве.
Тут подоспел деревянный поднос с гусями, зашитыми с капустой, и большой нож, который уверенно, явно не впервой, взял в руки Касимов. Сделал он из гусей десять порций – отец Николай с Татьяной Егоровной есть птицу не стали, день-то был постный, пятница, а Октябрь Платонович принципиально держался вегетарианства.
– Ирина Ивановна, – сказала Алёна, – голубушка моя, дитя спит, гуси в ход пошли, сядь, выпей спокойно. Ты уж столько тостов пропустила – за меня пили, за Октября пили, за царя пили…
– За какого царя – за английского, что Октябрюша придумал? Давайте лучше за того царя, который в голове.
– Вот я и спорить не буду! – отозвался отец Николай. – Вот это верно: Бог в душе, царь в голове!
– А я буду спорить, – ответил Октябрь. – Это всё неопределённые уравнения. Людям примеры нужны, человеческие примеры, кожей обтянутые, с ногами и руками. Сидит старец в келье, фунт хлеба в день ест, водой запивает и всех приходящих слушает-утешает, потерпи, дескать, – это я понимаю. А твою бюрократию раззолоченную, гладкую, с бородами и оперными возгласами, одними и теми же тыщу лет, – не понимаю, отче Николай! Закоченел ты в своих догмах совсем, замёрз. А мы люди горячие!
– Хорошо у вас, – сказала Анна, с неизвестно откуда взявшимся аппетитом доедая гуся. – Весело…
Пока горбатовцы пируют, мы покрутимся внутри твёрдых значений, осталось немного, зритель должен потерпеть, мы идем к финалу, смягчаются нравы, светлеют ритмы вот представьте, живут две женщины. Одна – честная, умная, работящая, чистая, вся из достоинств, короче. В Бога верит и отечеству служит. Ждёт избранника, которому отдаст всё и навсегда. И никого-то у неё нет, никто-то к ней не ходит! А рядом соседка, соседушка, гадючка – пустая, лживая, вся цена рубль, и не верит она ни в Бога, ни в чёрта, и грешит она как дышит. А валят к ней – толпами. Потому что умеет когда надо – грудку открыть, когда надо – плечиком повести, ножкой топнуть, пообещать и надуть, вдруг дать – а потом отшвырнуть… Завлекать умеет, секрет знает. А секрет простой, не бывает проще… Вот такая же разница между честным рассказом – и рассказом занимательным
проступает узор, становится понятно, что хотел сказать автор. Если бы он вообще хоть бы что-нибудь умел сказать.
я написал бы, что мы все – изумительно хорошие люди, полные до краёв спелой любви, и как здорово, что мы, красные от натуги, каждый день производим большое тёплое говно, в котором нам так удобно и приятно жить…
– Так напишите про это.
– Не хочу.
Что, уж и пошутить нельзя? Я была так серьёзна, я надоела сама себе.
Войско Богини-Матери! Тётки несут бытие на крутых, подпорченных остеохондрозом плечах.
исхаживают его короткими толстыми ножками, где, как малый счёт в Сбербанке, заведено отложение солей (если бы эволюция не остановилась, тётки сумели бы нарастить себе копытца!). Царство тёток – строгое царство: здесь всё своё, и болезни, и радости, и обычаи, и дизайн, и вера
Обожаю тёток! Хочу быть богиней тёток! Я соберу их в армию и поведу на юг! Мы что-нибудь завоюем с ними, а потом сопьёмся и славно умрём.
К чему вообще это болезненное скопление письменных слов? Мусорная свалка или накопитель, которым воспользуются некие другие времена
Литература – это невроз, а впрочем, откуда я знаю? Я пришла сюда на всё готовое.
и говорит с улыбкой: понимаешь, мама, уроды они и есть уроды. Они и капитализм построят такой же уродский, каким уродским был их социализм. Они, говорит, за сто лет трижды поменяли общественный строй, ну и что? Живут ещё глупее, ещё хуже, чем до семнадцатого года. Россия не получилась, вот и всё. Вот и все?! – говорю я. И что теперь нам делать, нас сто миллионов, доченька? Сто миллионов, отвечает, я взять к себе не могу, а тебя
Жизнь истончилась и ушла в слово, жизнь стала прозрачна, неощутима легка и противна, как запах газа
она если семейная – тогда надо придурков кормить, потому что там обязательно или дед лежит в параличе, под себя ходит, плюс мужик синий не просыхает, плюс внуки. Ну, суповой набор, ты сама знаешь. А если тётка одинокая – тогда она мается, приключений ищет. Или при ней гардемарин какой-нибудь, или девка. Бывают ещё тётки совком забитые, всего боятся – эти пьют. Жутко пьют. В любом разе бабки Теперь я редко вспоминаю людей, и мне так странно, что когда-то я разговаривала с ними. Но я хотела бы вернуться к ним, не сейчас, когда-нибудь, когда они станут другими и я стану другой.
щекастая физиономия стала почти симпатичной.
– Скажу вам как историку – мне самому жалко иногда кое-что из той, из прошлой жизни. И людей жалко – тех, бывших. Там такие бывали душевные люди, такие песни, эх! Заплутали мы как в лабиринте, по своему же говну кругом
Да взять да открыть магазинчик. Ругаться с персоналом, давать взятки. Хоть как-то присоединиться к рою! Завести себе реальную психологию: всё в дом.
как и всем, сидящим в русском самолёте, ей была непонятна неощутимая ею сверхзвуковая, сверхчеловеческая скорость исторического полета. «Мы должны были всем миром сойти с ума, – подумала Анна. – Мы-то, с нашими страстями и аппетитами, с корявой развинченной психикой. После двадцати с лишним лет социальной стабильности, тихо прораставшей язвами и опухолями, въехать в эдакую ненаучную фантастику! Но что интересного в русском полёте найдется для мира, для опыта веков? Хоть бы святые какие объявились. Или хоть войну бы какую выиграли, или изобрели чего-нибудь. А получается, сначала пыжились, мы наш, мы новый мир построим, а потом лопнули. Натёрли пятёрку на»
Не, русские ещё чего-нибудь грохнут напоследок. По крохам злобы соберут и придумают, что грохнуть.
беспутный глагол и надеется сам творить, подбивая на бунт ленивые существительные! А прилагательные женщины бродят на воле, избегая сочетаний… Итак, господам приходится работать с тем, что осталось, а этого едва-едва хватает на связное письмо. Влюблённые боги больше не могут обменяться затейливыми стихотворениями, так оскудела человекоречь. Глаголы ненадёжны, плохо с эпитетами, а главное – речь теряет размер, не держит форму.. Приходится вычёркивать. Постоянно приходится
Меня тоже когда-нибудь вычеркнут – но на меня много чернил пойдёт.
Всякая там любовь к родине…
– Вы считаете это отвлечённым чувством?
– Мне всегда казалось, что это нечто наносное, искусственное. Нет в человеке органа для такой
Требуется любовь – посылайте геологов, ищите месторождения, добывайте.
скудость, некрасивость, неверность своей жизни, если воспринять её как единую длительную мелодию метаморфозы бытия. Чего-то не хватало, недоставало, и как это исправить? Впереди была только одна, последняя метаморфоза – предстояло превратиться в старушку; если нет большого горя, метаморфоза занимает пять-семь лет. Но что было неверным? В ней никогда не чувствовалось цветения пола, и глупо было бы подхлёстывать
Женская жизнь заканчивается, а человеческая продолжается, и надо с ней что-то делать, заполнять её красиво, с умом, о, если бы это было так просто.
и отыщется там уголок знания о том, что согласие было. Было! Существует где-то трудовое соглашение, договор, по которому, зная о болезни, старости и смерти, предупреждённый о душевной и физической боли, извещённый о возможных потерях и вероятных форс-мажорах, каждый из нас всё-таки обязуется жить во что бы то ни стало. И самовольное