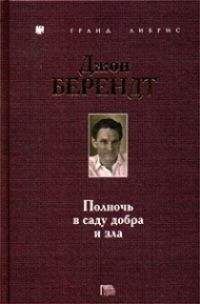Спустя три часа по коридорам прошел слух, что присяжные вернулись в зал. Пристав призвал публику к порядку, и присяжные заняли свои места.
– Господин старшина, вы вынесли вердикт? – спросил судья Оливер старшину присяжных.
– Да, сэр, – ответил старшина.
– Не соблаговолите ли вы передать вердикт секретарю, чтобы он его зачитал?
Старшина передал секретарю лист бумаги. Секретарь встал и огласил текст:
– Мы, присяжные, находим, что подсудимый виновен в преднамеренном убийстве.
Публика тихо ахнула.
– Приговор – пожизненное тюремное заключение, – провозгласил Оливер.
Два судебных пристава подошли к Уильямсу и сопроводили его к маленькой двери за скамьями присяжных. На пороге Уильямс на секунду остановился и оглянулся – взгляд его был пуст, темные глаза – как и всегда – абсолютно непроницаемы.
Публика высыпала в коридор и плотным кольцом окружила Бобби Ли Кука, который, стоя в ореоле света софитов и под прицелами телевизионных камер, высказал свое разочарование исходом процесса и заявил, что в течение нескольких дней подаст апелляцию. Пока он говорил, мимо толпы к лифту проскользнула никем не замеченная одинокая фигурка – это была Эмили Баннистер, мать Дэнни Хэнсфорда. Прежде чем дверь лифта успела закрыться, она обернулась. На лице ее была едва заметная улыбка и выражение спокойного удовлетворения.
Глава XVII
ОТВЕРСТИЕ В ПОЛУ
Джим Уильямс начал день в полных грандиозного великолепия покоях «Мерсер-хауз», а закончил его в холодной камере тюрьмы Чатемского графства. Таковы превратности судьбы. С блистательной общественной жизнью было покончено. Никогда больше сливки саваннского общества не станут возносить жаркие молитвы небу, чтобы оказаться приглашенными на экстравагантные вечера Уильямса. Он проведет остаток своих дней в компании воров, мошенников, насильников и убийц, короче, того самого, выражаясь языком Ли Адлера, «криминального элемента», который Джим столь рьяно и публично порицал.
Неожиданность и глубина падения Уильямса потрясли Саванну до основания. Общество не могло свыкнуться с мыслью о столь низком падении, и это можно было считать данью уважения Джиму. Не прошло и двенадцати часов с момента водворения Уильямса в тюрьму, как по городу пополз слух о том, что за решеткой Джим обставил отведенную ему камеру по своему вкусу.
– Ему присылают еду в тюрьму, – говорила Прентис Кроу. – Я слышала, будто дело уже улажено. Обеды он будет получать с кухни миссис Уилкс, а ужины – один вечер от Джонни Харриса, другой – от Элизабет. Он даже составил список вещей, которые привезут в его камеру – жесткий матрац и письменный стол в стиле Регенства.
Тюремные чиновники отрицали, что Уильямс пользуется в камере какими-то особыми благами, утверждая, что у него точно такие же права, что и у всех остальных заключенных, а это, как считали досужие умы, было очень плохой новостью для Уильямса. По говаривали, что его ждет еще более зловещая перспектива – перевод в исправительную тюрьму в Рейдсвилле, где Джиму предстояло отбывать свой бесконечный срок. В тот день, когда судья Оливер огласил приговор по делу Уильямса, заключенные Рейдсвилла взбунтовались и подожгли тюрьму. В свое первое утро в саваннском исправительном заведении Уильямс получил вместо приветствия свежую газету, где содержался подробный репортаж о бунте, рядом с репортажем помещалась короткая заметка об исходе суда над Джимом. На следующий день событиям в Рейдесвилле снова была посвящена первая полоса. Трое черных заключенных убили белого, нанеся ему более тридцати ножевых ранений. Администрация тюрьмы в ответ на это перетряхнула все заведение и изъяла у заключенных целый арсенал, где была даже одна самодельная бомба. При таких обстоятельствах речь в сплетнях пошла уже не о том, кто будет поставлять еду и камеру Уильямса, а о том, удастся ли его адвокатам уберечь своего подзащитного от перевода в Рейдсвиллскую тюрьму.
Домыслы и спекуляции на тему дальнейшей судьбы Джима Уильямса были пресечены самым решительным и безжалостным образом: через два дня после оглашения приговора судья Оливер освободил Джима под залог в двести тысяч долларов. Свора репортеров с камерами и без густой толпой окружила Джима Уильямса, когда он шел от ворот тюрьмы к своему синему «эльдорадо».
– Как всегда, бизнес будет превыше всего, мистер Уильямс? – спросил один из репортеров.
– Да, черт возьми, будет бизнес, как всегда! – ответил Джим. Несколько минут спустя он снова был в Мерсер-хауз.
Внешне жизнь Джима Уильямса, казалось, вернулась в нормальную колею. Он снова начал торговать антиквариатом и с разрешения суда посетил торжественный вечер в Нью-Йорке, посвященный выставке творений Фаберже из коллекции королевы Елизаветы в музее Купера-Хьюитта. Джим сохранял полное спокойствие; его разговоры не потеряли ни грана своей остроты, но… теперь он был осужденным убийцей, и, несмотря на легкий юмор, с которым он, казалось, относился к своему положению, над Джимом Уильямсом повисла аура отчаяния. Его темные глаза стали совсем черными. Он все еще получал приглашения, но их стало намного меньше. Старые друзья по-прежнему звонили, но гораздо реже, чем раньше.
В приватной обстановке Джим открыто выражал свою горечь. Больше всего его удручал не суровый приговор, не тот ущерб, который был нанесен его репутации и даже не тяжкие судебные издержки. Джима угнетало унижение, урон, нанесенный его достоинству самим фактом обвинения его в совершении преступления. Вначале он полагал, что его слова джентльмена будет достаточно, чтобы тихо покончить с этой неприятностью – обычно именно так в Саванне заканчивались дела, в которые были вовлечены именитые граждане. Так завершилось, например, дело о смерти светского человека, убитого совсем недавно при невыясненных обстоятельствах дубинкой на пляже, или гибель одного джентльмена под рухнувшим лестничным пролетом собственного дома незадолго до того, как он собрался разводиться со своей женой, или случай с дамой, которая сперва набальзамировала прошитое пулей тело своего любовника, и только после этого позвонила в полицию.
– Я же вызвал полицейских, – жаловался мне Джим вскоре после того, как был выпущен из тюрьмы под залог. – Вы бы видели их в ту ночь. Когда они по своему радио сказали, к кому приехали, сюда началось подлинное паломничество. Люди бродили по дому, как детишки, которых привезли на экскурсию в Версаль. Они рассматривали всякую мелочь и изумленно перешептывались. Полицейские пробыли здесь четыре часа. Это неслыханно. Если в Саванне на танцах в пятницу один черный убивает другого черного, то полиции хватает тридцати минут, чтобы разобраться в деле и поставить на нем жирный крест. Но эти полицейские устроили в моем доме настоящий бал. Когда женщина-фото-граф закончила съемку места происшествия, она пошла на кухню, приготовила для всей оравы чай и кофе, который они пили с печеньем. Мне это порядком действовало на нервы, но я думал: вот та цена, которую мне приходится платить. Достаточно, думал я, дать им получить удовольствие, а потом все будет кончено раз и навсегда. Они были исключительно вежливы: «Мистер Уильямс то», и «Мистер Уильямс се», и «Не могу ли я чем-нибудь помочь вам, сэр?» Один особенно услужливый коп подошел ко мне и сообщил, что присыпал содой то место на ковре, куда вылилась кровь Дэнни, и заверил, что пятна не будет. Я поблагодарил его за такую заботу. В полицейском участке, куда меня привезли, как я думал, только для Того, чтобы подписать какие-то бумаги, полицейские были столь предупредительны, что мне и в голову не пришло, будто меня собираются обвинять в убийстве. Я был ошарашен, когда прочитал об этом в утренних газетах.
Однако наибольшее возмущение Джима вызывала не полиция, а саваннское общество и силы, которые им управляли.
Люди из хороших семей Саванны рождаются в рамках системы, из которой они не в состоянии выйти когда и ни при каких обстоятельствах, – говорил Уильямс, – если только не покидают этот город навсегда. Сначала они идут в среднюю школу – обязательно привилегированную, потом в респектабельный колледж, откуда возвращаются в город и присоединяются к той или иной команде. Они работают в какой-то определенной компании или на какого-то определенного человека и постепенно делают карьеру, продвигаясь все выше и выше. Они должны жениться на девушке из хорошей семьи и с хорошей родословной. Семья должна быть не слишком большой. Они обязательно должны быть прихожанами либо Церкви Христа, либо церкви Святого Иоанна. Они должны вступить в Оглторпский клуб, яхт-клуб и гольф-клуб. Они достигают всего этого к шестидесяти годам – иногда чуть раньше, иногда чуть позже. Но в это время они уже выжжены изнутри и озлоблены, чувствуя себя несчастными, несостоявшимися личностями с исковерканной жизнью. Они обманывают своих жен, ненавидят свою работу и ведут унылую жизнь респектабельных неудачников. Их жены – о них надо сказать особо – есть не что иное, как нанятые на долгий срок проститутки. Основная разница заключается в форме оплаты – в нашем случае это дома, машины, тряпки и клубы. Респектабельная Саввинская жена берет за кусок своей задницы гораздо дороже, чем уличная девка – в этом-то вся и разница. Когда такие люди видят такого человека, как я, который никогда не присоединяется к их дурацкой стае, который рискует, выигрывает и проигрывает, они начинают ненавидеть чужака. Я много раз чувствовал это на своей шкуре. Они не могут мной помыкать, и это им очень не нравится.