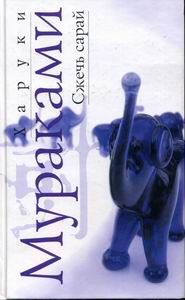Не важно, что с тобой происходит, – важно, чего ты ждешь. Хотя у нее я теперь всюду искал тараканов, даже в супе, в чае, но находил только шерсть, – все равно меня ждали два-три дня забвения, два-три круга по миру, в котором ничто меня не касалось. Да и во мне самом мало что меня теперь касалось. После еды у меня периодически стягивало живот болью – широкие клещи охватывали пупок справа и слева, – боль эта не совала свой нос в мои отношения с миром, а потому не унижала, оставалась моим внутренним делом. Но мама неосторожно прыснула знанием в одну из бесчисленных темных щелей.
– Ты просто завидуешь, – сказал я маме, когда она притащила мне талон на узи. – У других мужья болеют, а у тебя какой-то несерьезный.
Но даже на собственной простыне, при собственном полотенце, когда, начиная с вешалки, ты превращаешься в предмет для не вполне понятных тебе манипуляций… Холодок в груди, холодный киселек на животе, по которому черные резиновые перчатки возят белой молчаливой электробритвой: “Вам срочно нужен хороший нефролог”. Пупочные клещи вмиг забыты, и дальше уже несет конвейер. Это не страх – страшное усилие не давать волю воображению, видеть только первые планы.
Просроченный марганцевогорький барий удалось разыскать в столе одной хорошей знакомой маминой подруги. “Поработайте кулачком, вы почему такой трусишка?” – неправда, с отрезанной глубиной я ничего не боюсь, просто я стиснул кулак до дрожи. Внезапный жар, спазм пищевода, слюна через край: “Такой реакции быть не должно, мнительность”. Я лежу на холодном столе под мутным проницающим оком, оплетенный шлангами, подобно Лаокоону. Хоть бы пылинку значительности, хоть бы самый косой взгляд высшего наблюдателя… Снова приступ мнительности – ничего, ничего, еле ворочая языком, успокаиваю уже я. Вливают ампулу за ампулой, каждый раз вынимая шприц и оставляя торчать иглу. Текут не то минуты, не то часы – без глубины не понять, операторша в синем, хозяйственном, а не белом халате беседует с такой же синей уборщицей настолько задушевно, будто меня здесь вовсе нет.
Наконец она рисует на мне фломастером жирный зеленый кружок:
“Сходите подвигайтесь минут десять”. Поликлиника – отличное место для моциона, особенно лестница с передыхающими пенсионерами. Такой хороший дядечка, одеваясь, услышал я о себе, как будто меня уже не было. С ампутированной глубиной я и правда сделался очень хороший. И, вероятно, дядечка.
Серебряная седина, Мария Лазаревна Кацева восхищается моей почкой, словно лошадью либо женщиной: этот изгиб просто прелестен, только вот тут видите, какое вздутие, движение замечается только через час, вторая почка тоже немножко затронута, но это ничего, ее хватит. До этого я видел почки только в рассольнике, и эти светящиеся туманности среди фотографической тьмы кажутся мне слишком большими, чуть не с ладонь. К счастью, я все еще не верю, что эти туманности и есть я. Попробуем продублировать радиационным методом, ласково приговаривала прекрасная Мария Лазаревна.
Чавкающий снег, чавкающие носки – весна, набухают почки, скоро начнут лопаться. Стоп, только первые планы, не видеть, как я, вчерашний мальчуган – мамин хвостик, такой бесконечно маленький и одинокий, поднимаюсь по ступеням гигантского трилистника, откуда не так давно по профсоюзной линии получал гроб с веселой кокетливой девчонкой лет пятидесяти из нашей лаборатории и, глупое дитя, долго потом порывался рассказать ей, как нам пытались выдать за нее какую-то ссохшуюся, седую и невероятно серьезную куклу… Вроде я не отключался, но, следуя указателю
“Гардероб”, так и дошел до лаборатории с курткой на руке. Боже, что тут началось!.. “Хорошо, я сейчас отнесу”, – без глубины я очень рассудительный. “Не надо! Садитесь!” – Что-то она мне сейчас вдует в вену? Их и смертью не купишь. Вот они, изотопы, потекли из моей крови в мочу – один график быстро выходит на плато, другой так и влачится по абсциссе.
– Попробуем визуальное наблюдение, – не теряет надежды Мария
Лазаревна.
Меня привязывают к гинекологическому креслу и вносят трубу производства завода “Красный трактор” – я был уверен, что ее собираются надевать сверху.
Но первые планы не могут явить ничего особенно ужасного, тем более что у меня уже имелся застарелый опыт: прежде чем открыть клапан б кипящему чаю с вишневым вареньем, нужно взяться рукой за стену. “И все-таки я до конца не уверена, что операция так уж необходима”, – все жалела предать меня ножу добросердечная Мария
Лазаревна.
Я не особенно боялся страданий – меня переворачивало при мысли, что во мне будут рыться, словно в каком-то устройстве, касаясь предметов, которых, не будь мир создан ради глумления над нами, у человека и быть не могло.
Михайлов – русский витязь в хирургическом колпаке – на снимки едва взглянул: “Надо оперировать”. Но Кацева сказала, что, может быть, еще… “Ну так и идите к Кацевой”. Простите, я вовсе… А если не…? “В любой момент может произойти разрыв, застоявшаяся моча выльется в брюшную полость”. Но может ведь и не…? “Может.
Будет и дальше разъедать паренхиму. Я не уверен, что и сейчас операция спасет почку – может, она сложится вдвое…” И… и что? Но тут его срочно увлек огромный негр с ритуальными лучиками шрамов в уголках рта.
– Нет, жить на этой бомбе я не хочу, – проявила внезапную (а если разобраться, не такую уж внезапную) решимость мама. – Ты часто бываешь в разъездах – что, если?..
Меня больше всего ужасает, сипел я в трубку, что я попадаю в распоряжение чужих людей, для которых я только предмет, стук тапочек, которые я там брошу на пол в гардеробе – вот что меня ужасает, – как комья земли о крышку. “Ты неправильно понимаешь,
– в ее голосе снова пело бесконечное терпение и забота, – ты должен себе говорить, что идешь к людям, которые о тебе позаботятся. Не помню, я тебе рассказывала? – врач спросил, как я себя чувствую, а у меня слезы, ты просто объелся заботой. У нас был кот, так он сам каждое утро подходил к маме, чтобы она смазала ему болячку, – он понимал, что это для его же пользы”. -
“Сознательный кот. Буду брать с него пример”.
Я вполне мог заниматься делами, но развлечения, удовольствия ввергали меня в такую мрачность… Удовольствия не только не возмещают страданий, а, наоборот, тычут тебя в них носом. Да еще норовят всколыхнуть твою глубину, придавленную первыми планами, и она начинает грозить тебе смутными образами, куда более могущественными и всеохватными, чем и без того невеселая явь.
Чувствуя, что подобное может быть оттеснено лишь подобным же, я старался поднять со дна своего воображения какие-нибудь столь же огромные, но восхитительные образы, однако запас их у меня давно выветрился, а убедительно творить мифы в одиночку я оказался не в силах – обнаружилось, что работоспособным, к стыду моему, остался лишь детский фонд: я вообразил, что отправляюсь на фронт, и последний день на воле провел с какой-то даже задиристой веселостью.
Правда, по утрам, когда водяные часы будили меня на железной койке с заводной рукояткой, чтобы регулировать изголовье, и я видел больничную тумбочку с эмалированной кружкой, слышал храп, стоны, – могучий мрак разом поднимался из глубины, и нужно было срочно гасить его первыми планами: ледяная вода по пояс, стремительная зарядка на верхней площадке среди ломаных капельниц и дерматиновых верстаков (от первых же движений начинало бешено колотиться сердце), подтягивания на решетке, запирающей чердак. Потом “процедуры”, завтрак, обход, явление
Михайлова народу, прогулка по кардиологии, травматологии, нейрохирургии – страшные битые алкаши с перебинтованными головами, – интенсивная работа над башенками Вавилонской стены в тихом уголке, затем обед в аду – щи да каша, – и ни минуты свободы для пожирающих фантазий. Сибаритствовать можно, когда в главном нормально.
С “простыми людьми” в палате я поладил преотлично: когда я слагаю с себя ответственность за мировую красоту, человека приятнее меня еще искать и искать. Жилплощадь, штаны, внутренности, борщи, начальство – все это трогательно, когда человек страдает. Я снисходил даже до политических прений: разумеется, исполнить то, что они возглашают, – и миру конец, но это же не со зла. Политика – мир свободы. То есть романтизма. То есть безответственности. В микромире каждый знает, что излишек честности его погубит, – в макромире он требует от вождей какой-то астральной порядочности.
В микромире нет тайн – макромир только из них и состоит: всюду чьи-то происки.
“Если бы не вредители, мы бы давно жили при коммунизме. Ельцин потравил народ спиртом, все заводы продал иностранцам, за бутылку коньяка и черный ящик отдаст – ядерную кнопку”, – мужик как мужик: что с того, что сипит, лжет, злобствует, – он тоже страдает, в кооперативе ему от импотенции вогнали укол “в самый хрящик” – Он расправил плечи, гренадер гренадером, только вот голову свесил набок; выправили голову – у нее выросло слоновье ухо (прямо здесь же, в коридоре, воровато оглянувшись, оттягивает резинку), теперь Михайлов будет его отстригать.