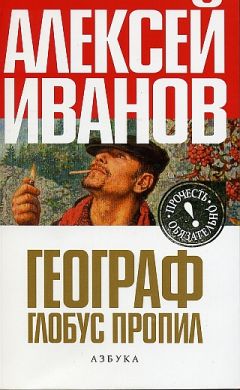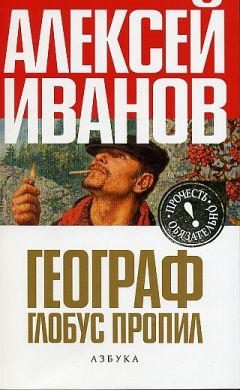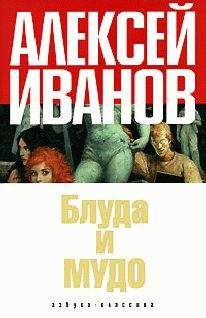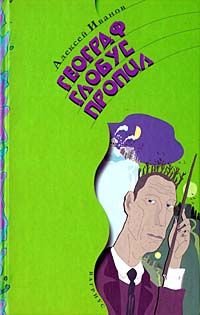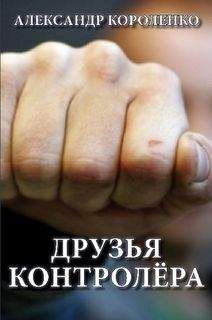Мне стыдно перед Машей, что я вчера распустил руки. Ведь она девочка, еще почти ребенок, а я вдвое старше ее и вдесятеро искушеннее, в сто раз равнодушнее и в тысячу раз хитрее. Для нее, примерной ученицы, я не парень, не ухажер. Я — учитель. А на самом деле я — скот. Я могу добиться от нее всего. Это несложно. Но что я дам взамен? Воз своих ошибок, грехов, неудач, который я допер даже сюда?.. Куда я лезу? Маша, прости меня...
Мне стыдно перед Овечкиным. Иззавидовался, приревновал... Нос разъело. Переехал ему дорогу на хромой кобыле. Пусть уж простит меня Овечкин. Хоть бы он ничего не заметил!.. Я больше не буду.
Мне стыдно перед отцами. Свергли меня — мало, да? Опять напился! Изолировал их от девочек, — мол, держать себя в руках не умеете. Не доверяю, мол. А сам?.. Бивень!
Все. Самобичевание изнурило меня. Зоркие мои глаза давно уже видят прислоненную к противоположному бревну открытую бутылку. В ней настойка водки на рябине. Есть водка на рябине, значит, есть бог на небе. Я беру бутылку и пью из нее. Потом я начинаю заниматься делами. Мир беспощаден. Помощи ждать неоткуда. Мне даже Градусов не помогает, хотя, между прочим, он сегодня тоже дежурный. Я разжигаю костер, отогреваюсь от его тепла и иду мыть котлы. Потом ворошу мешки с продуктами и начинаю варить завтрак. Конечно, между делом не забываю и о бутылке. Когда она иссякает, завтрак готов. Я трясу шест палатки и ору: «Подъе-ом!.. Каша готова!»
Я решил: кончено. Маши больше нет. Я никого не люблю.
... Вершина Семичеловечьей — это плато, поросшее соснами. Оно полого скатывается к торчащим над обрывом зубцам Братьев. Между зубцами — ступенчатый лабиринт кривых, мшистых расселин, загроможденных валежником.
Мы выходим к кромке обрыва. Внизу — страшная высота. Впереди, до горизонта, разливается даль тайги. Тайга туманно-голубая, она поднимается к окоему пологими, медленными волнами. И нету ни скал, ни рек, ни просек, ни селений — сплошная дымчатая шкура.
— Эротично!.. — бормочет Чебыкин, восторженно озираясь.
Прямо перед нами беззвучно поднимается жуткий идол Чертового Пальца. Кажется, он вырастает прямо из недр ископаемой перми, от погребенных в толще пород костей звероящеров. Он гипнотизирует, как вставшая дыбом кобра. Я чувствую его безмолвный, незрячий, нечеловеческий взгляд сквозь опущенные каменные веки.
— Фу, как смотрит... — ежится Люська.
Отцы поскорее проходят мимо каменного столба.
— Географ, а в эти ущелья соваться-то можно? — спрашивает Чеба.
— Суйтесь, — разрешаю я. — Только не звезданитесь оттуда...
Чебыкин исчезает в одном из ущелий. Остальные почему-то медлят. Неожиданно Чебыкин показывается на одном из зубцов-Братьев.
— Эгей, бивни-и!.. — орет он и машет руками.
— Слезай немедленно!.. — хором в ужасе кричат Маша и Люська.
Но Чебыкин, довольно хохоча, карабкается дальше, исчезает за выступами, спускается в расщелины, появляется снова, ползя по скалам, как муха. С ледяным шаром в животе я слежу за его передвижением. Я боюсь даже вздрогнуть, словно этим могу его столкнуть. Отцы кряхтят, инстинктивно сжимая кулаки и напрягая мышцы. Люська закрывает лицо ладонями. Я трясущимися руками вставляю в рот сигарету фильтром наружу и прикуриваю ее, ничего не замечая. Чебыкин взбирается на последний, самый высокий, острый и недоступный зубец. Он что-то вопит, размахивает шапкой, поворачивается к нам задом и хлопает по нему.
— Ну все, конец Чебе, — цедит сквозь зубы Градусов.
— Там пещера-а!.. — доносится до нас крик Чебыкина.
Потом он быстро и ловко лезет обратно и где-то на полпути сворачивает, чтобы выбраться к пещере покороче.
— Давайте тоже к пещере двинем, — говорю я отцам. — Вон туда...
Мы спускаемся в мшистое, сырое, холодное и темное ущелье. Оно круто и ухабисто падает вниз. Отцы цепляются руками за мокрые камни, скользят на сгнившей хвое и склизких бревнах. Кое-где нам приходится спрыгивать с невысоких обрывчиков. Отцы снизу страхуют девочек. Маша меня сегодня просто не замечает.
Я иду последним и думаю об этом. Мне уже не стыдно за вчерашнее, и мне не больно от Машиного невнимания, а может, и от открытой неприязни. Мне кажется, что в душе я заложил Машу кирпичами, как окно в стене. В душе лишь легкий сквозняк от новой дыры где-то в районе сердца — оттуда, откуда я наломал кирпичи.
Впереди и внизу мелькает Чебыкин.
— Иди сюда, козел! — злобно орет Градусов.
— Отжимайся! — советует Чебыкин и с хохотом убегает за уступ.
Наконец мы выходим на ровную, голую площадку. Над нею в стене треугольная дыра пещеры. Отцы взбираются ко входу и заглядывают.
— Там обрыв, — говорит Овечкин.
— А как же Чебыкин спустился? — удивляется Люська.
— Бу-бу-бу-бу! — жизнерадостно доносится пояснение из пещеры.
— Ага, — скептически соглашается Борман. — Не все же такие макаки.
— У нас в деревне один мальчик лазил-лазил по скалам, упал и разбился, — говорит Тютин.
— У вас в деревне живые-то мальчики хоть остались? — интересуется Маша.
— Знаете, куда Чеба залез? — спрашиваю я. — В древности эта пещера была...
— ... сортиром! — подсказывает Градусов и ржет.
— ... святилищем, и здесь, на площадке, стояли идолы.
— Каким святилищем? — удивляется Люська. — Разве здесь кто-то жил?
— Здесь жили великие народы, о которых человечество уже давно забыло. Здесь были крепости, каналы, капища. Были князья, жрецы, звездочеты, поэты. Шли войны, штурмами брали города, могучие племена насмерть дрались среди скал. Все было. И прошло.
Отцы слушают непривычно внимательно. На уроках в школе я такого не видал. По их глазам я понимаю, что они ощущают. Они, конечно, как и я, у Чертового Пальца тоже почувствовали незримый и неизъяснимый взгляд. И вот теперь у них под ногами словно земля заговорила. До самых недр, до погребенных костей звероящеров, она вдруг оказалась насыщенной смыслом, кровью, историей. Эта одухотворенность дышит из нее к небу и проницает тела, как радиация земли Чернобыля. Тайга и скалы вдруг перестали быть дикой, безымянной глухоманью, в которой тонут убогие деревушки и зэковские лагеря. Тайга и скалы вдруг стали чем-то важным в жизни, важнее и нужнее многого, если не всего.
— Географ, говори погромче!.. — слышится крик Чебыкина.
— Лучше вылезай! — кричит в ответ Борман.
— Фигушки, вы драться будете... Географ, погромче!..
— Археологи проводили здесь раскопки, — рассказываю я то, что читал и слышал про Семичеловечью, — нашли множество костей жертвенных животных и наконечников стрел...
— Ты, что ли, мослы растерял, Жертва? — Градусов пихает Тютина в бок.
— Нашел! Нашел! — возбужденно орет из недр пещеры Чебыкин. — Наконечник стрелы нашел!..
Отцы взволнованно заметались перед пещерой.
— Вылезай, урод! — кричит Градусов. — Не тронем! Слово пацана!
Через некоторое время Чебыкин вылезает и протягивает мне продолговатый камень. Отцы благоговейно смотрят на камень, трогают кончиками пальцев. Камень — обычный обломок.
— Что это? Стрела? Копье? — сияя, спрашивает Чебыкин.
— Кусок окаменевшего дерьма мамонта, — говорю я.
Отцы хохочут. Чебыкин сконфуженно прячет камень в карман.
— Для вас, бивней, может, и дерьмо... — независимо говорит он.
Мы уходим обратно вверх по ущелью. Я иду последним. Пацаны учесали вперед и забыли про девочек. Когда я хочу подсадить Машу, она оборачивается и взглядом отодвигает меня.
— Не надо! — зло говорит она и, помолчав, добавляет: — Я вообще не хочу, чтобы вы ко мне прикасались!
Пообедав, мы собираем вещи, чтобы отплывать. Борман потихоньку берет у меня консультации. А Маша меня не замечает. Она это делает не демонстративно, что само по себе означает какое-то внимание. Она не замечает меня, как человек не замечает развязавшийся шнурок. Но я спокоен. Я знаю, что Маша — моя. Я только не знаю, что мне с ней делать. В своей судьбе я не вижу для нее места. От этого мне горько. Я ее люблю. И я тяжелой болью рад, что мы сейчас в походе. Поход — это как заповедник судьбы. Собирая у палатки рюкзак, я слышу, как Маша разговаривает с Овечкиным. Они в палатке вдвоем. Им кажется, что стены отделяют их от мира. Но это не стены — это тонкое полотно, не способное скрыть даже тихий голос. И от мира никогда никого ничто не отделяет.
— Ты сегодня непонятная... — осторожно говорит Овечкин.
— Я нормальная, — твердо отвечает Маша. — Убери руки.
— Это из-за Географа?
— Не твое дело.
— А как же я? — после молчания наконец спрашивает Овечкин.
— Решай сам.
Мне жаль Овечкина. У Маши слишком крепкий характер. Другая песня — Люська. Когда мы спускались с Семичеловечьей, она грохнулась на склоне, а потом начала ныть и проситься на руки.
— Ты чего развонялась, Митрофанова? — не выдержал Градусов.