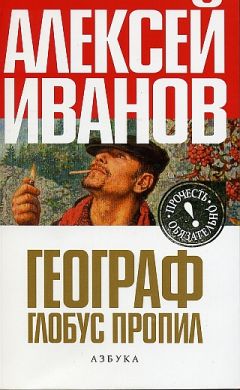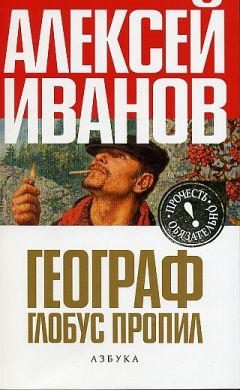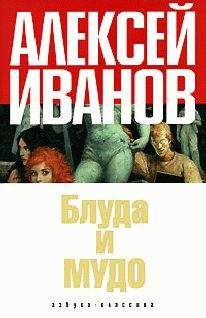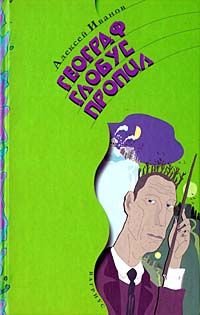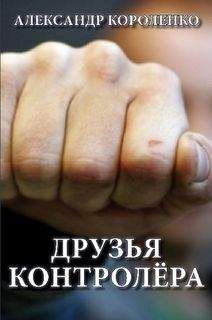Мне жаль Овечкина. У Маши слишком крепкий характер. Другая песня — Люська. Когда мы спускались с Семичеловечьей, она грохнулась на склоне, а потом начала ныть и проситься на руки.
— Ты чего развонялась, Митрофанова? — не выдержал Градусов.
— Дак чо, больно же...
— Подумаешь, коленку разбила. Не башку же.
— Ага, тебе, Градусов, только и хочется, чтобы я башку разбила...
— Хотелось бы — сам бы и разбил, — отрезал Градусов.
— Тоже мне, парни называются... — обиделась Люська.
— Ладно, давай донесу, — согласился Борман.
— Давай, и донесет! — озверел Градусов и тотчас получил от Люськи такой подзатыльник, что быстро побежал вниз, махая руками.
Борман усадил Люську на закорки и, покрякивая, потащил к лагерю. Благо что до него было метров двести.
— Градусов, ты сегодня дежурный, — на обеде напоминает Борман.
— Иди котлы мой, — поддакивает Люська, увиваясь вокруг Бормана.
— Одному западло! — рычит Градусов. — Пусть и Географ чешет!
— Он за тебя в завтрак дежурил, а ты спал.
— Меня не колышет! Будить надо было! И вообще, Борман мне не начальник! Я был против него!
— А его большинство выбрало, значит, он командир!
— Пусть тогда большинство и моет котлы!.. А ты чего раскомандовалась, если он командир? Сильно невтерпеж — так командуй своим Борманом, а не мной, поняла, Митрофанова?
— Почему это Борман мой? — опешивает Люська.
— Он же тебя на горбу таскает, как мешок с дерьмом...
— Ну и пусть я в него влюбилась! — злится Люська. — А тебе завидно, потому что ты рыжий и нос у тебя вот такой! — Люська широко разводит руки.
— Было бы чему завидовать! — яростно кричит Градусов и хватает котлы. — Да пускай, на фиг, он тебя любит, дерьма не жалко!
Демон пугается, видя такую битву вокруг Люськи. Он пытается всунуться, но никто его не замечает. Тогда ленивый Демон в отчаянии решается на подвиг. После обеда он рапортует Люське, что привязал ее рюкзак на катамаран.
— Ой, спасибо... — мимоходом радуется Люська и тотчас кричит: — Борман, а чо Градусов грязью кидается!..
Градусов ходит злой, ко всем придирается, пинает вещи. В конце концов перед отправлением оказывается, что только он еще и не готов. Он носится по поляне и орет:
— Борман, где мой рюкзак? Я его самый первый собрал!
— Вон твой рюкзак, — спокойно кивает Борман в кусты.
Градусов выволакивает рюкзак и брезгливо кидает его на землю.
— Это вообще какой-то чуханский, а не мой!
— Это мой... — тихо пищит Люська.
Демон беспомощно улыбается и пожимает плечами.
С грехом пополам мы выплываем.
Вновь нас несет желтая, пьяная вода Поныша. Вновь летят мимо затопленные ельники. Низкие облака нестройно тащатся над тайгой. Длинные промоины огненно-синего неба ползут вдали. На дальних высоких увалах, куда падает солнечный свет, лес зажигается ярким, мощным малахитом. На склонах горных отрогов издалека белеют затонувшие в лесах утесы. Приземистые, крепко сбитые каменные глыбы изредка выламываются из чащи к реке, как звери на водопой. Вода несет нас, бегут мимо берега, и линия, разделяющая небо и землю, то нервно дрожит на остриях елей, то полого вздымается и опускается мягкими волнами гор — словно спокойное дыхание земли.
Под вечер у берегов начинают встречаться поваленные ледоходом деревья. Я тревожусь. Такие «расчестки», упавшие поперек реки, могут запросто продрать наши гондолы. Впереди я вижу длинную сосну, треугольной аркой перекинувшуюся над потоком. Достаточно порыва ветра, чтобы сосна рухнула вниз и перегородила дорогу, как шлагбаум. Я встаю на катамаране во весь рост и гляжу вперед. Я вижу одну, две, три, еще сколько-то елей, рухнувших в воду. Дело худо. Мы проплываем под сосной, как под балкой ворот. Ворота эти ведут в царство валежника.
Катамаран обходит одну «расчестку», потом, чиркнув бортом, другую. Борман командует толково, без нервов. Но третью «расчестку» мы зацепляем кормой. Градусов сражается с еловыми лапами и выдергивается из них красный, лохматый, весь исцарапанный.
— Бивень! — орет он на Бормана. — Соображай, куда командуешь!
И тотчас нас волочит на другую елку.
— Падайте лицом вниз и вперед! — кричу я.
Экипаж, как мусульмане в намаз, падает лицом вниз. Мы влетаем под елку. Сучья скребут по затылкам, по спинам, рвут тент, прикрывающий наше барахло. За шиворот сыплется сухая хвоя, древесная труха. Поныш свирепо выволакивает нас по другую сторону ствола.
— Ата-ас! — вдруг истошно вопит Чебыкин.
Мы налетаем бортом теперь уже на березовую «расчестку».
— Упирайтесь в нее веслами! — ору я.
Сила течения так велика, что весла едва не вышибает из рук. Круша бортом сучья, мы врубаемся в крону. Я вцепляюсь в раму и ногами принимаю удар ствола. Я изо всех сил отжимаюсь от него, чтобы нас не проволокло под «расчесткой». Она лежит слишком низко и попросту сгребет нас всех в воду, как ножом бульдозера. Поныш от нашего сопротивления словно приходит в бешенство. Целый вал вмиг вырастает, бурля, вдоль левого борта. Левая гондола всплывает на нем. Мы кренимся на правую сторону, и вал все же вдавливает нас под березу.
— Тютин, Маша, живо на левый борт! — командую я. — Всем надеть спасжилеты! Овечкин, руби сучья снизу!
Серой тенью мимо меня пролетает по стволу Овечкин с топором. Он седлает ствол и начинает яростно рубить его перед собою.
— Овчин, назад!.. — надрываюсь я.
Овечкин молчит. Лицо его побелело. На лбу по-мужицки вздулись вены. Топор носится вверх и вниз. Щепки клюют меня.
Оглушительный треск, хруст, плеск — это отсеченный ствол, обнимая катамаран всеми ветвями, рушится в воду. Фонтан брызг окатывает нас с Градусовым. Освободившись, катамаран резко идет вперед. Мгновение я вижу Овечкина, сидящего верхом на обрубленном стволе, который остается позади. А еще через мгновение Овечкин, как летучая мышь, прыгает на уходящий катамаран и падает грудью на корму. Мы с Градусовым волочим его из воды. Чебыкин спихивает березу с нашего борта. Растопырившись, она отплывает в сторону. Поныш несет нас дальше — свободных и очумелых.
— Ты что, охренел?! — орет на Овечкина Градусов. — Ты, что ли, Буратино, который не тонет?!.
Маша смотрит на Овечкина потемневшими, серьезными глазами.
— Он ведь спас нас!.. — потрясенно говорит Люська.
— Еще «расчестка»! — через десять минут кричит Борман.
Теперь, перегородив реку, в русле лежит кряжистая, разлапистая сосна. Вода клокочет в ее ветвях, волны в пене перескакивают через ствол, возле которого кувыркается и толчется разный плавучий мусор. Эту «расчестку» мы можем преодолеть, только волоком протащив свой катамаран через прибрежный тальник.
— Левый борт, загребай! — командую я.
Мы прочно увязаем в кустах. Мы подтягиваемся за ветки изо всех сил, но катамаран не лезет дальше. Я веслом меряю глубину.
— Чего зырите? — зло кричу я отцам. — Снимай штаны, будем толкать!
Борман безропотно начинает стягивать сапоги.
— Нам тоже? — оборачиваясь, спрашивает Маша.
— Куда вам, блин! — орет Градусов. — Сидите, не рыпайтесь!
В свитерах, трусах и сапогах мы соскальзываем в воду и беремся за каркас. Холод, как вампир, впивается в тело. Глубина тут — чуть повыше колен.
— Ты-то куда лезешь? — орет Градусов на Тютина. — Помощник, блин, пять кило вместе с койкой!..
— Р-раз!.. — командую я. — Р-раз!.. И-эх!..
Всемером мы волочем катамаран по зарослям мимо упавшей сосны. Катамаран тяжеленный, как дохлый слон. Голые прутья тальника царапают ноги. Мы скользим по корням. Чебыкин и Борман дружно падают, но поднимаются и тянут дальше.
— Так же свои струги тащили ватажники Ермака... — хриплю я.
Наконец можно забраться наверх. Трясясь, отцы натягивают штаны прямо на мокрые трусы. Синий Градусов орет:
— Митрофанова! Доставай мне флакон и сухие рейтузы!
— Откуда? — пугается Люська.
— Щас как скажу, откуда!.. Сидишь-то на моем рюкзаке!
Люська, путаясь руками, развязывает градусовский рюкзак. Она достает какие-то веревки, мотки проволоки, банки, свечи, маленькие механизмы непонятного назначения и все это с ужасом передает Маше. Наконец на свет появляются огромные зеленые семейники и бутылка водки. Я зубами распечатываю ее, пью из горлышка и пускаю по кругу. На мой озноб словно бы льется горячая вода.
— Впереди ледовый завал, — убито говорит Борман.
Мы вытягиваем шеи. Поперек реки лежит елка, а к ней прибило целую гору льда. Его сколы и грани искрятся на солнце, — оказывается, тучи уже разошлись. И справа, и слева — непролазный затопленный ельник. Ни проехать, ни пройти. Затор.
— Что же делать? — растерянно спрашивает Борман.
— Отжиматься, — говорит Градусов. — Конец фильма.
Чтобы найти поляну для ночевки, мы сворачиваем в затопленную просеку. Здесь — черная тишина и покой. Гул Поныша гаснет. Мы медленно плывем между двумя стенами елей. Под нами видны размытые колеи. В чистой воде неподвижно висят шишки. Лес отражается сам в себе. Ощущение земной тверди теряется. Вдали, за еловыми остриями и лапами, стынет широкая ярко-розовая заря.