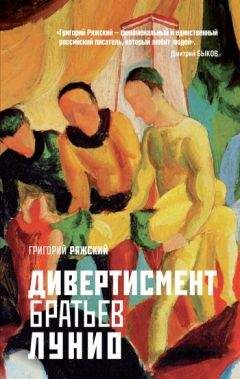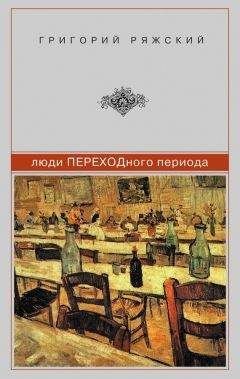Мы с Нямой своим маленьким примером как раз оказались такой противоположностью. Разными ребячьими болезнями, если не брать в расчёт этот проклятущий гипофизарный нанизм, практически не болели. Как и мама наша, Дюка, которая также избежала их в своё время. Ели мы с Нямой нормально, не всё подряд, конечно, из того, чем кормила нас Франя, но зато не кривлялись, как другие, и не портили воздух и вид дурацкой отрыжкой. Дедушку Гирша обожать стали значительно раньше разумного срока; смотрели на него со встречным умилением, начиная чуть ли не с перевёрнутого изображения. А когда всё выпрямилось и перекувыркнулось обратно, уже просто глаз не могли оторвать от того, как он навстречу нам губы вытягивал, гукал и подмигивал влажными зрачками. То есть по линии мамы всё было не по этому Споку. Зато частично совпадало по отцовскому направлению наследственности. В том смысле, что любой похожестью, на какую можно было рассчитывать, штудируя учёного и врача, похвастаться было ну никак невозможно. Даже, если в случае с Иваном и нашлось бы чего-нибудь мало-мальски завалящее для предмета будущей сыновьей гордости, то впоследствии оно бы по-любому успешно рассосалось, поскольку по характеру и по уму отец наш всё же был и есть классический недоумок.
Так вот, о наследственности. Поставленный ещё до нашего с Нямой появления на свет диагноз полностью подтвердился. Мы – карлики. Вполне милые, не особенно кривые и не слишком непропорциональные. Судя по оставшимся в семье фотографиям, Дюка такой, какими будем мы с Нямой, не была. Это и понятно, процесс её укорочения начался существенно позже нашего и не с голого нуля, но зато мы, начиная с сознательного возраста, всё уже знали наперёд.
Первой нам про это дело Франя донесла, по поручению Гирша. Сам не хотел подставляться, её послал. Нам тогда уже, наверное, годика по три было, по четыре. Были мы не детсадовские, где могли бы помериться с ровесниками в отставании или опережении физического развития, а чисто домашние. Свои со своими, как говорится. Весёлости, аппетита и взаимной любви в нашей семье хватало и даже было с избытком. «Дюканчики вы мои родимые», – так иногда в приступе умиления обращалась к нам Франя, вспоминая этаким добрым манером нашу покойную мать. Она вообще, с первой самой минуты уже души в нас не чаяла, как только узнала, что вынули нас живыми, а мать не спасли. В этой её привязанности к нам и сокрушительной преданности отчасти проявлялась и любовь её к Гиршу, и отсутствие у них собственных детей, и вера её неизбывная в Бога и справедливость на белом свете.
Кроме как за тем, чтобы сходить на рынок и постоять на клиросе, Франя обычно дом не покидала, всецело занималась с нами. Мамой второй была нам, няней, домашним поваром и воспитателем, согласуя свои действия с мерой своих скромных познаний в этой области. И брала не знанием и ученьем, а чувством, интуицией, запоздалым женским чутьём. Знала, кому из нас первому какать, а кому лучше вовремя остановить кашу, чтобы не подвергнуть себя недоумённому и обиженному детскому взгляду. Что лучше на улицу и правильней поддеть под шубку при морозе, если он есть. Как замирить нас, когда одна игрушка, а желаний два и они одновременны. И чем запить холодным, если что-то горячей получилось, чем надо. И почему от луны не жгуче, а от солнца лучше краснеет живот. И что такое упаковка и от кого её охраняет дедушка. И где тот папа, который уехал ещё давно, и почему он вместе с дедом не приходит поцеловать в нос, перед тем как спать. И для чего велосипедику маленькие колёсики по бокам, если он и так ездит, когда вырастает высокий и большой. И что такое вал по зерну и экономия по горюче-смазочным материалам. И почему собачкам в космос можно, а нам нельзя. И кто такой Ленин и чем он хуже товарища Брежнева Леонида Ильича. И почему у комсомольцев беспокойные сердца, а у Франи обыкновенное и не беспокойное. И кто больше долговязый ростом – папа, про которого так один раз сказал дедушка, или дядя Стёпа из книжки. И кого кто лучше любит, Франя Петю или дедушка Няму. Или нет, наоборот: кто на кого чаще не ругается: Франя на них обоих или дедушка на Франю. И что такое «ходить в школу», для чего она нужна и кто пойдёт туда первым, Петя или Няма.
Так вот, подошли к главной теме. Первый разговор про то, что бывают люди большие и поменьше, Франя завела с нами примерно за год до школы, понимая, что мы уже начинаем обращать внимание на малость свою в сравнении с дворовыми и остальными пацанами. В ту пору мы не думали ещё, что отставание наше будет тем интенсивней, чем скорее мы в своём развитии отрываемся от окружающих нас человеческих размеров и высот. Франя долго подбирала подходящие слова и решилась объяснить ситуацию следующим образом.
– Смотрите, мальчики, – сказала она и положила перед нами два семечка, большое и поменьше. – Вот семечки, от тыквы и от подсолнуха. Это большое и покруглей, а другое поменьше и длинненькое, утянутое вроде как. Мы их посадим, и они вырастут оба. Только у этого, – она ткнула в тыквенное, – сыночек вырастет, как оно само, попузатей и побольше размером. А у того – она указала на другое, – ребёночек будет маленький и тоже на маму свою похожий.
– Утянутый, – уточнил Няма.
– Пускай утянутый, ладно, – согласилась Франя. – А теперь скажите, вы на маму свою похожими стать хотите или не хотите?
– Хотим, хотим! – заорали мы оба, хотя сами никогда её не видали, только на фотках.
– Вот! – с тайной гордостью за проведённый урок подбила результат Франя. – Вот потому вы и есть оба такие, как ваша мамочка была, маленькие сами и невысокого росточка. – И ещё спросила: – А чего вам вкусней погрызть, тыквенное или вот это, вкусное? – и подала нам семечку, одну на двоих, подсолнуховую.
– Эту, эту вкусней! – снова заорали мы, вырывая её друг у друга.
– О том и речь, мальчики. Она той поменьше будет, но зато и повкусней. Так вот и вы у меня, маленькие, зато такие вкусненькие, что прям съесть вас обоих хочется, а-ам!
Мы тогда, помню, сорвались с места и с криком унеслись прятаться. Но семечко то досталась Няме, не мне. Он вообще понаглей был и пошустрей. Я больше в приёмного дедушку пошёл по маминой линии, а он, наверное, в отца неизвестного.
А через год, в сентябре, нас отвели в школу. Не в ту, куда мама ездила через весь город, а в ближайшую к дому. Нам было по восемь, Гирш не хотел со школой спешить, всё, видно, оттягивал момент неловкости и семейного неудобства – ну, что мы у него не такие, как все. Стеснялся немного, и это чувствовалось, хотя сам виду не подавал, выглядел торжественным, с улыбкой и цветами.
Мы его поняли – потом, правда, не сразу. В той сентябрьской точке стартовала вся наша жизнь, с неё начались контакты с внешним миром, включая тех людей, которые не обязательно хотели любить нас с Нямой так, как любили нас Франя и Гирш.
Однако некоторым образом выручали два обстоятельства. Мы были близнецы, и это с самого начала переключало внимание с нашей карликовости на реальный интерес к удивительной паре неотличимых малышей. Практически игрушечных. Ну как если бы вы попали в цирк, представьте себе, вы же не стали бы первым делом тыкать в пару крольчат, которых фокусник за уши извлекает из своего цилиндра. Или, допустим, вам и в голову бы не пришло поиздеваться над двумя одинаковыми мопсами, которые ходят на задних лапках послушно красавице-дрессировщице. Хотя они и собачки, а не люди и ходить так не обязаны.
А во-вторых, мы удивляли всех мозгами. Соображали быстрей других и лучше запоминали. Кроме того, никогда не ржали под партой и старались не отвечать грубостью на хамство. Такое тоже иногда случалось. Но уже ближе к средним классам, когда наши отличия от остальных сделались совсем уж разительными.
А однажды кончилось и это, никто не захотел больше рисковать. И причиной тому стал Няма. Тогда мы уже с ним заканчивали восьмой класс, то есть, по школьным понятиям, были почти стариками – хоть иди себе в техникум поступай, коли уж доучился до первого колена. А выпускной этот парень, что совсем заканчивал, был из недавних, только перевёлся в эту школу. Он и подумал себе, что младшеклассник этот, что налетел на него в коридоре, пацанёнок ростом с вершок, достоин наказания. А это Няма был, спешил на физкультуру. Тот остановил Няму, левой рукой нос ущемил и больно завернул в сторону. А правой щелбан нанёс, в лоб, звонко и прилюдно.
Драться Няма не полез, шансов всё равно не имел отоварить придурка, он просто снизу маленькой ручкой своей железно так прихватил пацана за яйца и подержал их, не выпуская, пока у того яблоки из орбит не начали от боли выкатываться. А Няма спокойно стоял и кисть не разжимал. Смотрел тому в физиономию, не по-детски совершенно глядел – другим, недобрым каким-то, холодным взглядом. Так смотрел, наверное, пахан устьсевлаговский на дедушку Гирша, прикидывая, казнить его или миловать колбасной жижей.
И понял всё старшеклассник тот, глазами пощады замолил – рот открыть не получилось, так его перекосило. И после стороной Няму обходил, когда замечал.