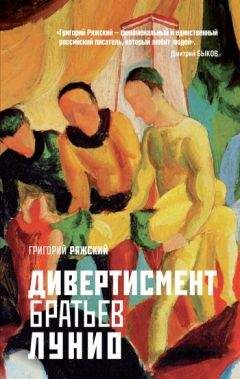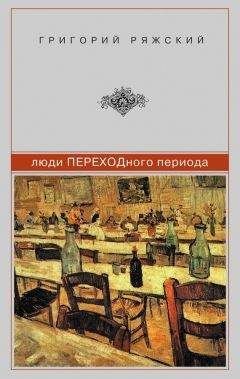Потом уже, через годы, когда мы к джазу с ним пришли, не сговариваясь, и к умопомрачительным по силе своей и красоте импровизациям, несправедливость эта была устранена, и поэтому состязательность наша, как взаимное опасение, отмерла сама по себе. Пока же оба мы лишь отлавливали потихоньку сполохи затаённых подозрений – кто из нас мастеровитей и точней в своём звуке и кто оркестру в принципе нужней. И не только как инструмент – сам по себе.
Видя такое дело, Гирш к концу восьмого класса купил каждому по инструменту, чтобы уже не брать теперь чужое, училищное. Не сомневался, что поступим. Да и у нас самих уже не было сомнений, зная, что наработали неплохой опыт, существенно превышающий багажом навыки прочих поступающих.
И только перед смертью Гирш признался нам, что, не имея своего мнения о нашей реальной подготовке, был уверен в успешном результате. И не потому, что мог оценить уровень владения инструментом, а из-за того, что верил, что не обидят они карликов, то есть меня и Няму, не посмеют. И до самой смерти жила в нём эта убеждённость, что маленький человек, хоть и любимый и самый родной на земле, но с мужиком в полный рост не потягается ни в одном из направлений жизни. Знал, вывел для себя формулу такую необратимую и терпел, пережимал себе глотку, никак не выказывал тревоги своей больной. Представляете, сколько он давил в себе, и какой тяжести, душевных сил? Любимый наш Гирш...
Отвлёкся. Итак, тот самый вечер, в ДК. Хлопки отгремели, все стали уходить окончательно, наши все по футлярам разложились и к выходу со сцены потекли. Я первым вышел, а Няма задержался. Тут он подошёл ко мне и остановил. Под полтинник, наверное. Одет совсем никак – с незаметной простотой и довольно безвкусно. Но всё не старое, нормальное, в общем. Сам свежевыбрит, под одеколоном и разит сильнее нормы. Заметно было сразу, что робеет. И ещё видно, что не музыкант, а просто благодарный зритель культурного мероприятия городского масштаба, средний сам по себе, только высоченный.
Я смотрю на него выжидающе, ничего не думаю, ни про что. Автографы раздавать мне пока что рано, «спасибо» выслушивать – для этого тоже есть кто поглавней, солист или дирижёр наш.
– А другой тоже на музыке играет, как сам? – спрашивает он меня.
– Какой другой? – удивляюсь я его вопросу. – Вы, наверное, про брата моего, про Наума?
Он не соглашается:
– Нет, я про Петра своего, про Петю толкую тебе, про Лунио.
Я на это поясняю:
– Пётр Лунио – это я, товарищ. А Наум – мой брат, он ещё не ушёл со сцены. А вы чего хотели?
– Значит, выходит, тоже на музыке играешь на этой? – вопросительно произнёс он, то ли осуждающе, то ли с умело скрываемым восхищением, и кивнул на мой футляр с саксофоном. – Тоже на дудочке этой поперечной? Вишь как, дудка сама тонкая, а упаковка под неё вон какая. Кирзой опрессована или дерматин?
Я ему говорю удивлённо, и на самом деле плохо понимая, о чём это он, и уже начинаю немного раздражаться:
– Какая дудочка, это саксофон, вы чего. Что ещё за кирза такая?
Ответ мой, вероятно, его не устроил. Дылда недоверчиво покачал головой и, подав вперёд большие губы, переспросил:
– Саксофо-о-о-н? Вот оно как, значит. И сам не Наум, а Пётр, говоришь?
– А что вас не устраивает, простите? – я посмотрел на часы, нам с Нямой надо было домой, Гирш хотел, чтобы в честь нашего концерта мы сегодня вместе поужинали, с ранней клубникой на десерт, он специально сгонял в Жижино и набрал с грядки. Франя там у нас хозяйство вела, не запускала.
– Да не, – смутился высокий, – меня всё устраивает. Просто я батя ваш, получается, вот и смотрю. Вижу, играете обои на музыке. Ну, порадовался там у себя в зале. И пришёл вот сказать про это. – Помявшись, высокорослый добавил: – Нам на упаковочной пригласительные дали, на цех, сказали, сходите, послушайте, там играть типа будут. Вот я и пришёл, чего не сходить, раз за так дали.
Я поставил футляр на пол, вертикально, и замер. Окаменел. Попробовал подумать над услышанным, но ничего из этого не вышло. Ни одна дума не входила в голову, и ни одна не выходила наружу. Там, внутри, тоже ничего не зарождалось. Всё было так же, как было ещё минуту назад. Просто откуда-то возник посторонний ступор, вмешался по-хозяйски и наделся на головной мозг. И на все другие подвижные части моего организма. Дылде я был чуть ниже пояса. Мои замершие навечно 90 против его всё ещё удивлённых 196 выглядели даже не странно. Это был забытый за кулисами номер, которому теперь срочно требовалась реанимация со стороны. В качестве реаниматолога выступил брат, Няма. Он подошёл ко мне, не обращая внимания на зрительскую громилу, и толкнул в плечо:
– Ну ты идёшь или чего? Время, Петюнь, время!
Я растолкался и тупо посмотрел на брата:
– Он говорит, что батя. – И умолк.
Наум не удивился:
– И чего? Чей батя? Кто говорит? – и глянул на наручные часы. – Так идём или остаёшься?
– Он, – ткнул я неподъёмным пальцем в дядьку, – говорит, что он батя.
– Ну и отлично, пусть говорит, нам-то что с того? – Няма с улыбкой задрал глаза на уровень двух метров от пола с каблуками и переспросил странного зрителя: – Это вы батя?
– Ну да, – уже почти спокойно ответил высоченный дядька, – получается, что я вам отец, а вы мне сыны. Обои. Пётр и Наум, по царю и по родителю Григорий Наумыча. Я ж и говорю, всё сходится. – Потом он додумал ещё немного, восстанавливая в голове детали, и убил наповал окончательно: – А Дюка – ваша мать. Мать Мария. Мария Григорьна.
Ну что сказать. Няма быстро присоединился ко мне, к моему ступору. Даже быстрей, чем я сам, в ступор впал. Теперь мы оба замерли – я по старой уже привычке, а Няма – снову. Так и стояли, красиво приоткрыв небольшие ротики. Человек, назвавшийся батей, тоже хранил молчание, чтобы не растревожить наш бессловесный от него откол. Тем не менее первым вздрогнул он. И уточнил для себя:
– Пацаны, а Франька так и живёт с вами?
Надо было либо верить, либо не верить. Оба мы, очнувшись одновременно, пошли по третьему пути, попытавшись выяснить истоки.
– А вы, простите, откуда сами взялись? – первым из нас задал свой вопрос Няма. – Насколько нам известно, наш отец расстался с нашей мамой ещё до нашего рождения и уехал жить куда-то на восток, кажется. И там у него другая семья. При чём тут упаковочная фабрика?
В своё время Гирш долго думал, какую версию про нашего несуществующего отца будет избрать верней. Сначала, думал, сообщит нам, что тот умер. Однако с этой вариацией не согласилась Франя, сказав, что нельзя так про живого, даже если он глупый негодяй и не платит алиментов. Но Иван не был даже алиментщиком, Иван был просто незлобивый неандерталец с творческой жилкой, и та касалась исключительно способов упаковки ювелирных изделий и бижутерии. Кроме того, существовала договорённость, о которой Григорий Наумович специально заставлял себя не забывать. Такая память помогала размышлять об Иване не только как о недочеловеке, и от этого Гиршу становилось чуть легче.
Проходил ещё вариант не «умер», а «погиб». Но до причины смерти дело так же не дошло, поскольку эта версия не слишком отличалась от первой своей аморальной сутью.
«Бросил» – не подходило, таких матерей и жён, как Дюка, не бросают, не сметь даже слово такое произносить при детях.
Гораздо приемлемей звучало так, и лучше скороговоркой: «Уехал далеко-безвозвратно-там образовалась другая семья – так уж получилось-не сошлись характерами-были очень разные-плюс взаимная обида...»
Примерно таким образом мы были мельком информированы дедом по достижении первого разумного возраста. Ну, а уж потом, в удобные промежутки, Франя, когда заходила речь, мягким голосом поддерживала эту модификацию, попутно уводя разговор в сторону, и постепенно уверовала в неё сама. Потихоньку забылись обиды, стёрлись глупости, выветрились случайные слова, и не хотелось больше думать о нехорошем, было ведь у них когда-то ещё и всякое другое. И потом – ведь за что-то же Дюка жила с Гандрабурой этим, стало быть, нашла в нём человека и если бы не мы с Нямой, так бы и жили они по сию пору, кто знает. А Франя не Дюка, она не того полёта птица, она бы могла и терпеть. «Вот и надо злиться и терпеть», – так и думала Франя про себя и про всю нашу жизнь.
С годами вариант оброс мелкими, неправдивыми уже подробностями и отвлекающими от истины деталями, упрочнив свой фундамент. Таким образом в дальнейшем муссировании темы необходимость вскоре отпала уже совсем.
Отцом нам был Гирш, и другого никакого отца никому в этой семье было не надо. Ну а Франя, занимая хорошее и доброе место между мамой, мачехой, няней и святым духом, оставалась, в смысле быта и каждого отдельно прожитого дня, самой необходимой и надёжной фигурой в семье Лунио. Хотя и не заработала на пенсию, прервав рабочий стаж по просьбе Григория Наумыча. Но и об этом не беспокоился у них никто – семья в этом смысле крепко стояла на ногах.
Что касалось упаковочной фабрики, то она воспринималась в семье только как место дедовой работы и никак иначе. И когда Иван упомянул о ней в связи с самим собой, я удивился. Хотя понял, что удивился, не сразу.