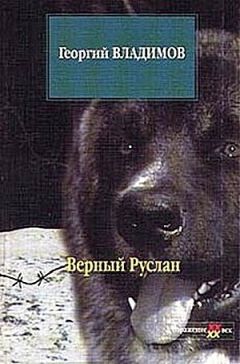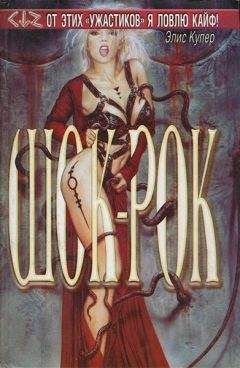— Вы генерал с танковым качеством, — сказал Жуков. — Я это ценю. Как же вы их на кручи-то волокли?
— По-всякому. Бывало, и слегами подпирали под гусеницы. Одного вытащим — другого он тащит тросами.
— Небось и сами плечо подставляли?
Кобрисов только повел могучим плечом, и зал заскрипел скамьями, дробно рассмеялся.
— Фотий Иванычу нашему, — сказал Терещенко, — такому лбу, хоть на спину взвали…
— Сколько было машин? — спросил Жуков.
Вместо Кобрисова, встрепенувшись от дремы, ответил Рыбко:
— Шестьдесят четыре. Минус две.
«Батько» всегда знал, разбуди его среди ночи, сколько у кого танков.
— Две еще на том берегу потеряли, — уточнил Кобрисов, неожиданно для себя тоном оправдания. — Теперь-то мы с них пылинки сдуваем…
Снова повисло молчание. Жуков, поворотясь к залу, смотрел на всех недобрым взглядом. Под этим взглядом все казались — или хотели казаться — на голову ниже, опускали глаза. Хрущев ерзал по скамье, точно она была утыкана шильями. Ватутин смотрел прямо, но какими-то отсутствующими глазами.
— Так, полководцы… — начал Жуков зловеще. Но не продолжал. И показалось Кобрисову, что не только он над ними имеет власть, но какую-то и они над ним. Может быть, не меньшую.
Терещенко быстро переглянулся с левым своим соседом по фронту, Омельченко, тот согласно моргнул и поднял руку для слова. Тучный, круглоголовый, луноликий Омельченко, с пробором в рыжеватых волосах, уложенных плойками, настроил себя на тон проникновенный, был сама скорбь и душевная боль.
— Мы тут услышали грубые слова от товарища нашего, Кобрисова…
— Не для нежных ушей? — сказал Жуков.
— Не в том печаль, товарищ маршал, что грубые, мы в своем коллективе по-солдатски привыкли, а — обидные. Упирается человек в свое лишь корыто, а того не видит, что, может, все по плану делается. Что командование фронтом свою задумку имело. Одним такая доля выпала, чтоб, значит, фон Штайнера этого на себя отвлекать, нервировать его, а другим — знамя над горсоветом водрузить. Необязательно всех было посвящать, но теперь-то можно же догадаться, что был заранее спланированный маневр. И как у поэта сказано, у Маяковского, не грех напомнить: «Сочтемся, понимаешь, славою, ведь мы ж свои же люди…»
Вот как все было, оказывается! Вот как было, когда он, Кобрисов, смотрел в стереотрубу на черного ангела с тяжелым крестом на плече, высоко вознесшегося над кущами парка, на ослепительный купол собора, с пробоиной от снаряда, чудом не разорвавшегося внутри, на дымящиеся руины проспекта, наклонно и косо сходящего к Днепру, и думал о том, какая обидная доля выпала ему: стоять против великого города и только страховать Терещенко — на тот невероятный случай, если б фон Штайнеру вздумалось переправиться на левый берег и запереть Сибежский плацдарм с востока. Вот как было, когда трясущимися руками, подстелив плащ-палатку, он разворачивал карту и колесиком курвиметра вел по извивам водной преграды «р. Днепр», когда раздвигом циркуля отмерял расстояние от Предславля до Сибежа и то же расстояние отложил к северу, и грифельная лапка уткнулась в сердцевину кружка, и прочиталось: «Мырятин». И было, оказывается, предвидено, спланировано заранее, как он, по колено в воде, ища свою подстреленную утку, раздвинет камыши в плавнях, и посмотрит на тот берег, и поразится его зловещему безмолвию, и услышит толчки сердца в висках…
— Должен я отвечать на упрек, товарищ маршал? — спросил Кобрисов.
— Необязательно, — сказал Жуков. Он снизу послал многозначительный взгляд, которого Кобрисов, однако, не видел, смотрел в глаза Ватутину.
— Николай Федорович, предвидели вы, что я сам попрошу разрешения?
— Почему ж не предвидел? — раздражаясь, спросил Ватутин. — Когда позвонил ты мне в Ольховатку, я же не удивился, тут же согласие дал. А если б не попросил — тебе бы рано или поздно приказали…
— И когда я свои танки быстренько на правый фланг уводил, сам от себя прятал, чтоб другие не увели…
— Ну, всего не предусмотришь. И танки я от тебя не требовал кому-то передать.
Два человека кричали в Кобрисове, и один твердил упрямо: «Не было этого, не было!», а другой: «Остановись же! Вот здесь остановись!» Но, понимая отчетливо, что каждым словом обрубает ниточку, которую протянули ему, он все же не мог не бросить им свой горький, злой упрек:
— Пускай бы вы просто на берегу стояли против Сибежа — и то бы фон Штайнера отвлекали. Нервировали, по крайней мере. А так — слишком дорогая получается мясорубка. — Он увидел грустный предостерегающий взгляд Галагана и все же продолжал: — Он ждал вас на юге — и дождался. А если б сразу начали, где я, да всем гуртом навалились, он бы рокироваться не успел.
— Не доказано, — сказал Жуков. — Не кормите нас гипотезами. Кое-что справедливо говорите, но — не все. С кем согласовывали наступление на Предславль?
Кобрисов отвечал уклончиво:
— Товарищ маршал, а для чего ж тогда плацдармы берутся?.. И что ж меня судить, когда мои части в двенадцати километрах?..
Он удержал на языке, не прибавил того, что кричало в нем: «Да что происходит здесь? Что происходит? Вы там, на Сибеже, навалили горы битого мяса, и все топчетесь, топчетесь который месяц, а я, с потерями вдесятеро меньшими, уже вплотную к Предславлю подошел, но не я сужу вас, а вы приехали меня судить, и никому из вас это не удивительно!.. Ехали сюда — не удивлялись, зачем едете?»
— Никто вас не судит, — сказал Жуков.
— Победитель ты, Фотий Иваныч, — начал было Галаган, но Жуков его остановил, выставив ладонь:
— Не судим, а разобраться хотим. Как дальше быть.
— Вот я тоже разобраться, — поднял руку Хрущев. — Почему это так, что и судить нельзя? У нас таких нет, чтоб судить нельзя было. Я не в смысле, значит, трибунала, а в смысле суждений, значит. Партия такое право всегда имеет, и нам тоже предоставлено. И победителей тоже, значит, иногда, если они…
— Никита Сергеич, много у тебя? — спросил Жуков.
— Ну… Я по оперативному скажу вопросу. Вот вы наступаете, Кобрисов, да? Наступаете пока, можно сказать, успешно. А поглядите вы через плечо. Через правое. И что у вас за спиной делается? А там, понимаешь, целый город у вас в тылу остается. Мырятин этот, значит. Намерены вы с ним что-то делать или как?
— А на кой он ему? — спросил Галаган.
— Как «на кой»? — удивился Хрущев. — Хорошее дело — «на кой»! Город советский. Занятый, понимаешь, врагом.
На этот вопрос, которого более всего опасался Кобрисов, и должен был ответить Чарновский: «Отрежьте мне этот кусок плацдарма, вместе с Мырятином. У меня перед фронтом более или менее крупных городов нет, я бы и этому рад был». Так должен был сказать Чарновский, но почему-то молчал. Отсев подальше от Кобрисова, смотрел сосредоточенно в пол.
— Командующий, — спросил Жуков, — как у вас складываются отношения с противником в районе Мырятина?
— Нейтралитет у меня с ним, товарищ маршал. Друг друга не тревожим.
— Но он угрожает вашим переправам.
— Угрожал. В основном авиацией. Бывало, по сорок самолетов налетало, а то раз и семьдесят мы насчитали. Но потом генерал Галаган обеспечил здесь наше господство, так что — тихо сидит.
— Но вы же клинья зачем-то выдвинули. Планировали окружение?
— Не было такого плана. Только угроза окружения. Где мне, с моими силами, еще окружать!
— И не надо, если не хотите. Двиньте вы ваши клинья километров на пять. Да он оттуда раком уползет!
Так оно, верно, и будет, подумал Кобрисов. Уползут. А только в последнюю очередь те, кому больше угроз от пленения. Когда паника начнется, не достанется русским ни машин, ни повозок, ни седел, ни танковой брони. Им — прикладами по пальцам, чтоб не цеплялись. Здесь конец боевому содружеству, каждый за себя. Умрите вы, падаль, а нам прикройте отход. И вы же в своей России остаетесь, чего вам бояться — встречи с земляками?..
Заговорил между тем Терещенко:
— Разрешите, товарищ маршал, и с вами немножко поспорить… Как понимать это — «пусть уползет»? Это же предоставление инициативы противнику. Это мы еще ждать должны, как он решит: захочет — уползет, захочет — клинья обрежет. Много чести, мне кажется. Не сорок первый год, теперь мы ему должны навязывать нашу идею, а он — пусть принимает. И тут я у командующего четкой идеи не вижу пока. Я б такую занозу, Мырятин, у себя на фланге не оставлял бы.
Жуков, не отвечая ему, обратился к Кобрисову:
— Сколько бы вам понадобилось еще машин? Если б была у фронта возможность.
Кобрисов задумался, набрал в грудь воздуху, выдохнул шумно.
— Сто бы мне. «Тридцатьчетверочек».
— Почему сто? С потолка берете?
— Так двести же не дадут.
— Генерал Рыбко, могла бы ваша армия сколько-то выделить ему?
«Батько», очнувшись, поближе к животу прибрал свой портфель, точно там они и были, танки.