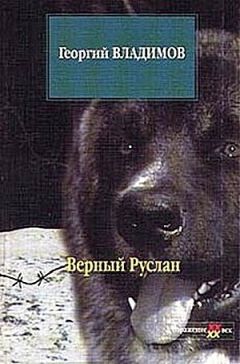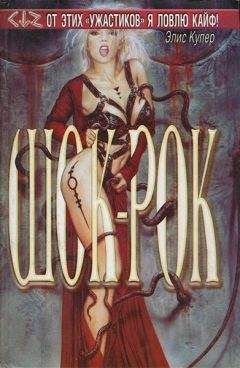«Батько», очнувшись, поближе к животу прибрал свой портфель, точно там они и были, танки.
— Цэ трэба розжуваты, товарищу маршал. Да он же у нас такой озорник, Кобрисов этот. Ему дай сто, хоть и двести дай, он же их все на Предславль угонит…
— Ну, это уж как он распорядится.
— …а то еще куда-нибудь. А сам и знать не будет, где они у него.
— Ничего, найдутся. Он их теряет, он же их и находит.
— Давай, батько, раскошеливайся, — сказал Галаган.
Кобрисов тоже смотрел на «батьку» выжидающе. Кто-кто, а танковый генерал наибольшую нес ответственность за авантюру с Сибежем, должен был предвидеть лучше других, что его «керосинкам» там уготовано сделаться свалкой металлолома, и воспротивиться этому, а сейчас — мог лишь приветствовать возможность перебросить их на Мырятин.
Мучительная дума пересекла «батькин» лоб горизонтальной морщиной. И вдруг он блаженно разулыбался.
— Анекдот вспомнил. Разрешите, товарищу маршал?
— Оперативная пауза, — сказал Жуков.
— Приходят это чекисты с ГеПеУ к еврею: «Рабинович, сдай деньги в госбюджет!» Ну, жмется Рабинович: «Та откуда ж у меня деньги?» — «У тебя-то, может, и нету, а у твоей Саррочки, ГеПеУ знает, припрятано. Давай выкладай». — «А зачем вам деньги?» — Рабинович спрашивает. «Как это «зачем»! Социализм строить». — «А у вас их нету, денег?» — «То-то и дело, что нету!» — «Так я вам так скажу: когда нету денег — не строят социализм».
На анекдот генералы отвлеклись охотно, у Жукова края рта завернулись кверху.
— А мы его вроде построили, социализм? — спросил он, улыбаясь как-то неуверенно, как бы прося снисхождения. Что-то в его улыбке напоминало беззубого ребенка.
— Как же, Гер Константинович! — укорил Хрущев. — Верховный еще когда говорил: «Завоевания социализьма».
— А, так его еще завоевывать нужно…
— Да нет же, Гер Константинович, это он завоевывает, социализьм!
— За всем не уследишь, — сказал Жуков виновато. — Ну, на то у нас комиссары есть. Ладно, полководцы, оперативную паузу заполнили. Вернулись к Предславлю.
— К Мырятину, — напомнил Терещенко.
— Да, к Мырятину.
К танкам, однако, не вернулись.
Маршал помолчал, умыл толстой ладонью свой чудо-подбородок с «полководческой ямочкой». Наверно, ни при какой погоде сам бы он не стал возиться с городишком районного масштаба, имея впереди «жемчужину Украины», и понимал, наверно, Кобрисова, и потому опять смотрел на всех недобрым взглядом.
— Какая все-таки причина, — спросил он, — что командующий не хочет брать Мырятин? Он же у вас на ладони лежит.
Еще в эту минуту можно было выиграть затянувшийся бой, перетащить Жукова на свою сторону, только высказать самый веский довод.
— Товарищ маршал, — сказал Кобрисов. — Это так кажется, что на ладони.
— Мне кажется?
— Вам не все доложили. Операция эта — очень дорогая, тысяч десять она мне будет стоить.
— Что ж, попросите пополнения. После Мырятина выделим.
— Мне вот этих десять… жалко. Ненужная это сейчас жертва. И одно дело — люди настроились Предславль освобождать, за это и помереть не обидно, а другое дело — я их сорву да переброшу на какой-то Мырятин. Жалко мне их. И ради чего я ими пожертвую, когда мне каждый сейчас, в наступлении, втрое дороже? Есть у меня мысль, что противник как раз и ожидает, чтоб мы здесь потратились материально…
— А мне, — спросил Терещенко, — думаешь, так хочется за Сибеж ничтожный тратиться? А приходится. Жуков его остановил:
— Уважайте соседа, полководцы. Он не всегда глупости говорит. Что ж, командующий, к вашему доводу следует прислушаться.
Но по голосу чувствовалось: не прислушался нисколько. Любой другой аргумент он бы рассмотрел внимательно и во всех подробностях, этого — он как бы и не слышал. Тем и велик он был, полководец, который бы не удержался ни в какой другой армии, а для этой-то и был рожден. Все было у него — и подбородок крутой с ямочкой, и рост достаточно невысокий, и укажут остряки на первый слог в его фамилии со звуком «У», столь частый у полководцев Суворов, Кутузов, Румянцев, Брусилов, Куропаткин, два Блюхера и Мюрат, Фрунзе, Тухачевский, Клюге, Гудериан, да хоть и Буденный, и даже Фабий, своей медлительностью заслуживший прозвище «Кунктатор», — но главное для полководца пролетарской школы было то, что для слова «жалко» не имел он органа восприятия. Не ведал, что это такое. И, если бы ведал, не одерживал бы своих побед. Если бы учился в академии, где все же приучали экономно планировать потери, тоже бы не одерживал. Назовут его величайшим из маршалов — и правильно назовут, другие в его ситуациях, имея подчас шести-, семикратный перевес, проигрывали бездарно. Он — выигрывал. И потому выигрывал, что не позволял себе слова «жалко». Не то что не позволял — не слышал.
— Стоит прислушаться, — повторил он. — Но вы мой довод не опрокинули. Вот что делает ваш противник. Удар во фронт. По ослабленному плацдарму. С выходом к Днепру.
— Это был бы акт отчаяния, — сказал Кобрисов. — Зачем ему между клиньями лезть?
— Согласен. Но акт возможный. Приказ есть приказ, и солдат его выполнит. И это было бы для нас очень болезненно. Переправы сейчас — самое для нас ценное. Так что подумайте. Подумайте о Мырятине.
Кобрисов запнулся на секунду, было у него чем этот довод оспорить, но тотчас ворвался в разговор Хрущев:
— Вот я, Гер Константинович, ну кто о чем, а вшивый, значит, о бане. То есть я, значит, как политработник волнуюсь. Насчет, значит, укрепления морально-политического духа в войсках. Тем более «жемчужина Украины» и все такое. Вот были мы с Николай Федорычем в Восемнадцатой армии, там такой, значит, начальник политотдела, заботливый такой полковник. Как его, Николай Федорович? Гарнэсенький такий парубок, с Днепропетровска, бровки таки густы. Когда мужик из себя видный, тоже ж играет значение! Душевно так, заботливо с солдатами перед боем поговорит, освещение подвигов подает, наладил, значить, вручение партбилетов прямо на передовой. «Бой, говорит, лучшая рекомендация». Его, кстати, идея была — символические подарки украинцам-командармам. Хорошо б его сюда для обмена, значит, опытом как-то прикомандировать. Как же его? От же, склероз, вылетело…
— Никита Сергеич, — поморщась, сказал Жуков, — вспомнишь — вернемся к вопросу.
Он уже вставал, заставляя и всех вскочить. Низко напяливая фуражку, подошел к Кобрисову. Выпрямясь и сделавшись на голову выше маршала, Кобрисов увидел мгновенную вспышку раздражения в его глазах, извечного раздражения низкорослого против верзилы. Впрочем, маршал ее погасил тотчас и осведомился благосклонно:
— Командующий, откуда я вас еще до этой войны помню? Не были на Халхин-Голе?
— Был, товарищ маршал.
— А по какому поводу встречались?
Кобрисов, помявшись, сказал:
— А вы меня к расстрелу приговорили. В числе семнадцати командиров.
— А… — Маршал улыбнулся той же улыбкой беззубого ребенка. — Ну, ясно, что к расстрелу, я к другому не приговариваю. Не я, конечно, а трибунал. А за что, напомните?
— За потерю связи с войсками.
— Как же случилось, что живы?
— А нас тогда московская комиссия выручила, из Генштаба, во главе с полковником Григоренко. Они ваш приказ обжаловали и, наоборот, кое-кого к «Красному Знамени» представили. В том числе и меня. Вы же потом и подписали.
Брови маршала сдвинулись на миг и снова разгладились.
— Припоминаю. Ну, видите, как хорошо обошлось. И вы теперь связи уделяете должное внимание. — Он протянул руку. — Поработайте еще, командующий. Желаю успеха.
Генералы, шелестя целлофановыми пакетами, подходили к Кобрисову попрощаться.
— Ты, часом, не в обиде на меня? — спросил Терещенко. — Пощипали тебя, так и ты ж нас тоже. Первый притом. Поверишь ли, больные струны задел!
— И с чего, спрашивается, гавкаемся? — сказал огорченный Омельченко. Общее ж дело делаем, мирно бы надо.
— Ладком? — сказал Кобрисов.
— Именно. Сошлись бы как-нибудь втихаря, ну там бутылочку уговорили. Почему нет?
— Слушай их, Фотий Иваныч, — сказал Галаган, — а делай все наоборот. Три к носу, держи хвост трубой.
Подошел и Чарновский. Постоял, покачиваясь с пяток на каблуки, поднял хмурое лицо, с еле не сросшимися густыми бровями:
— Извини, что не поддержал тебя. Но и ты себя с людьми не так повел. Мы не об этом договаривались.
— Никаких претензий, Василий Данилович. Поступил ты по совести, тактично.
Чарновский, ярко вспыхнув, что-то хотел сказать, но круто повернулся и вышел.
Остался Ватутин. Он долго стоял у пролома в стене, смотрел, как рассаживаются по машинам, кому-то крикнул, что поедет последним, наконец повернулся к Кобрисову:
— Как самочувствие?
— Душновато, — сказал Кобрисов. — Дышать тяжело. Расстегнуть бы две пуговички. Ежели позволите.