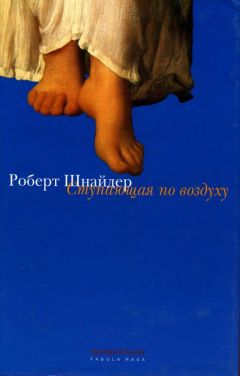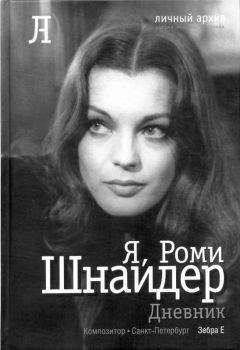— «Похищение Европы». Школа Пауля Трогера. Около 1750 года. Холст. Масло. 50х64 см… Мы видим возлежащего быка, он бел как снег, на рогах венец из роз. Европа, дочь финикийского царя Агенора, доверчиво тянется к быку, прислоняется к его спине, охватывает ладонью левый рог. Ее подруги осыпают цветами его голову. Два крылатых купидона парят над всем. Один держит в правой руке венок из алых роз, другой — ветвь розы. Европа, облаченная в серовато-зеленое, мягко струящееся одеяние, — левая грудь обнажена — вопросительно смотрит на подругу в ярко-синих одеждах. Шкура быка выдержана в светлых тонах от белоснежного до светло-серого. Он устремил на Европу похотливый взгляд, облизывая ноздри своим длинным языком. Вся сцена разыгрывается на морском берегу. Вокруг быка и всех других фигур рассыпаны раковины различных форм и размеров. Небо предвещает прелестную погоду. Цвет неба варьирован от пепельно-голубого до беловато-желтого… Картина была передана художником в уплату долга хозяину вышивальной мастерской Иоганну Эгле.
Она прервалась и откинула голову, втягивая воздух простуженным носом. Затем продолжила скрупулезную каталогизацию бывшей галереи своей бабушки. Мауди знала, что в эти картины была вложена вся любовь Марго. Что эта любовь была выражением долгой, как жизнь, неутолимой тоски.
— Мартино Альтомонте, прозываемый также Мартином Хоэнбергом. «Амур и Психея». 1714 год. Датировка на оборотной стороне. Холст. Масло. 1,79х1,43 м… Перед нами угрюмый пейзаж лесистых гор, выдержанный в темно-зеленых, почти черных тонах. Это — преддверие царства Аида. На переднем плане мы видим Психею. Она охвачена смертельным сном. Над нею парит Амур, одним взмахом крыл он пробуждает ее к жизни…
Она говорила это для Марго и умолкла, лишь когда Георг коснулся ладонью ее мокрых волос. Мауди взглянула на лицо покойной, опустила глаза и замолчала. Молчали все. Потом заплакала Инес.
— Примите мои глубокие соболезнования, — скорбно понизив голос, сказала сестра Марианна.
Она выдержала ритуальную паузу.
— Еще кто-нибудь придет?
Георг отрицательно покачал головой.
— Хорошо. Тогда мы можем ею заняться.
Я. Я обнаруживаю себя. Сбагренное с рук дитя сенного цветочного праха. Я томлюсь тоской по дому. Тоской по этому человеку, жизнь которого рассказал против его воли. Марго никогда не доверила бы свой мир слову. Написанное для нее ничего не значило. Да и рассказанное тоже. Жизнь была рекой и бежала вдаль, и было все, и не было ничего, и наконец — забвение. Меня томит тоска по дому, говорю вам, разлапые, в пять ярусов, ели Мешаха. И тоска изъела мой день.
Они заполонили весь неф. Множество тех, кто знал ее, и еще больше тех, кто о ней говорил. Церковь Св. Урсулы просто ломилась. Городскому священнику редко выпадал случай служить столь знатную заупокойную мессу. Но по всему было видно, что жители Якобсрота не просто прощались с женщиной, чье имя стало символом рейнтальской текстильной индустрии. Казалось, что происходит также прощание с великой старинной традицией, передававшейся от семьи к семье и обеспечившей всему краю столетнее благополучие. Шок, вызванный недавней вестью о падении дома Ромбахов, запечатлелся на лицах многих. Рабочих и работниц, складовладельцев, бухгалтеров и кассиров. Директрис магазинов и модельерш.
Как же теперь выполнять обязательства, взятые ради только что отстроенного домика, если муж с января сидит без работы? Кому сейчас нужна швея? В уборщицы податься? Треть населения Якоба уже составляют безработные.
Это было необычайное отпевание, и означало оно не столько скорбь по усопшей Марго Латур-Мангольд, сколько нарастающий страх перед будущим. А будущее грозило нищетой. Здесь эти люди скрепя сердце должны были притерпеться к мысли о ней. В Св. Урсуле расставались в тот день с текстильным веком долины.
Священник, который еще Мауди крестил, предлагал обращать взоры к облакам небесным, где можно увидеть дорогих сердцу усопших. Но узреть их надо сердцем. Ибо, как у двух учеников близ Эммауса «глаза были удержаны», так они удержаны и у нас. Марго, сознававшая себя католичкой до последних дней, и сейчас бы терпеливо сносила риторику священнослужителя. Она никогда не прислушивалась к его речам. Он казался ей человеком недалеким, скудословным, обесцвеченным стереотипами и сломленным собственной бессердечностью и тем обстоятельством, что его сословие уходит из жизни. Дело не в нем или не в том, какие чудовищные или прекрасные деяния совершила когда-либо католическая церковь. Все это дело рук человеческих. Все это совершалось везде. Зло всегда уравновешивается добром. То, во что действительно верила Марго, она выразила однажды Амрай такими словами:
— Когда-нибудь человек поднимется и скажет: твой враг был тоже ребенком, как и ты. Ты хочешь обидеть ребенка?
Амрай была против похоронного многословия. Но Эстер хотелось что-то сказать. Только для этого она и приехала из Вены. Она должна была сказать слова благодарности человеку; который, в противовес цинизму Харальда, всегда отстаивал правдивость. И на Красной вилле Эстер довелось пережить самые чудесные мгновения детства.
Она неуверенно шагнула к кафедре, дрожащими руками развернула лист бумаги и начала читать. Слишком тихо и слишком далеко от микрофона, она говорила как бы про себя: Мне уже однажды пеняли за то, что я пишу лишь о малом, что герои мои — всегда люди обыкновенные… Она читала отрывок из авторского предисловия к «Пестрым камням» Штифтера, тот самый пассаж, который Марго часто наизусть цитировала по памяти. Мужчины, что помоложе, вытягивали шеи, разглядывая эту такую цветущую женщину с рыжим шелком волос, струящимся на плечи. Те, кого больше интересовала не персона, а ее речь, раскрывали рты, навостряли уши, чтобы хоть догадаться, про что она читает. Расшифровать удавалось лишь обрывки. Когда Эстер дошла до строк: так же, как всякий человек — драгоценный дар для всех людей… — ей пришлось прерваться, потому что у нее пропал голос. Она начинала вновь, в третий и в четвертый раз, но все попытки заговорить ей не удавались. Она отошла от кафедры и направилась вниз к той скамье, на которой сидели Латуры и Ромбахи. И Ри обняла Ре, и Эстер разрыдалась. В глубине нефа, под хорами, стоял человек, незнакомая женщина держала его под руку. Амброс Бауэрмайстер был в очках на покрасневшем от сыпи лице. Амрай потом поинтересовалась, кто ему сообщил о смерти матери. Инес поклялась, что только не она. Амрай поверила.
Так проводили Марго в последний путь и похоронили в фамильном склепе. Рядом с падучим Дитрихом, которого она, по собственному признанию, никогда не любила. Горы цветов громоздились по обе стороны гроба. Любопытно, что самые дорогие венки были присланы людьми, для которых Марго мало что значила, и наоборот. Потянулись бесконечные причитания и соболезнования, все рулады показной скорби.
Потом к гробу подошли два человека, чье появление было для Амрай неожиданностью, — Хенк Иммерзеель, нынешний хозяин Красной виллы, и его друг Яап. Иммерзеель держал в руке какую-то жалкую веточку. Но, как вскоре выяснилось, это была не просто ветка, а побег розового куста из бывшего сада Марго. Он вложил ветку в руки Амрай.
— Это — флорибунда. Благородный сорт. Отличается махровым цветом. Куст посадила ваша матушка. Если весной вы посадите его на могилу и будете хорошенько поливать, он уже летом покроется светло-розовыми цветами.
По пути домой Амрай занимала одна-единственная мысль: ужасный вид Амброса Бауэрмайстера. Его появление было столь ошеломительно-неожиданным, что она не решилась заговорить с ним.
— Кто эта женщина, которая вела его? Почему он ослеп, бедняга? — пытала она Инес.
Инес не отвечала. И лишь когда вопрос прозвучал в третий раз, она тихо сказала:
— Может, настало наконец время… вам поговорить.
Ее лицо показалось Инес обожженным какой-то невероятной болью.
— Господи, как ты любишь его, — глухо произнесла она.
Всю ночь они были вместе. Они говорили. Говорили обо всем на свете. До раннего утра.
Через день Амрай уже ехала в поезде в Ланд-кварт, куда вернулся Амброс Бауэрмайстер после того, как потерял зрение. Дверь дома открыла та самая женщина, что была его поводырем во время похорон. Это был дом его родителей, а дверь открыла младшая сестра Амброса. Амрай вошла. В доме было холодно. Женщина провела ее на второй этаж, они поднялись по крутой деревянной лестнице. Сестра Амброса указала на узкую дверь.
— Он в своей детской комнате.