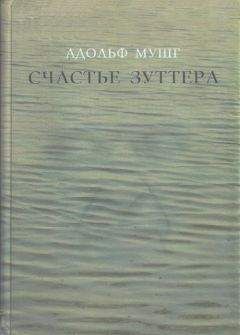— Владелица умерла, и вам об этом не сообщили? — дрожащим от возмущения голосом спросила она.
— Ялу, — вмешался фон Бальмоос, — может, ты присядешь? Зачем устраивать сцены на глазах у всех?
Она снова не обратила на него ни малейшего внимания и осталась стоять. Пришлось стоять и Зуттеру.
— Не беспокойтесь, — сказал Зуттер, — я найду, где остановиться.
— А если в «Вальдхаусе», Эзе? — предложил фон Бальмоос. — Хочешь, я спрошу у администратора? Будешь моим гостем.
И тут произошло нечто, чего Зуттер совершенно не ожидал. Ялука бросилась ему на шею. Она обняла его и положила голову ему на грудь. Он почувствовал, как она всем телом слегка прижалась к нему. Ощущение, которое он испытывал, только когда брал уроки танцев. Он осторожно взял ее за плечи, которые вздрогнули от прикосновения его рук, но так и не решился отодвинуть ее от себя.
Все вокруг внимательно наблюдали за ними.
— Не уходите, — услышал он ее голос.
Чтобы внятно, преодолевая смущение, ответить ей отказом, ему нужно было отодвинуть ее, но она сама стремительно откинула голову и решительно повторила:
— Не смейте уходить!
Он улыбнулся и пожал ей руку, но этот его жест остался без ответа.
38
Зуттер и фон Бальмоос молча шли обратно в долину Фекса.
— Вот видишь, — сказал Йорг.
— Вижу, только не знаю что.
— Вот уже восемь лет ты злой дух моей семьи.
— Объясни.
— С удовольствием, господин кукловод. Одна из твоих кукол имеет к тебе претензии. Восемь лет танцует она под твою диктовку. Представление длится по двадцать четыре часа ежедневно и называется «Многоженство в калмыцкой семье». Оригинальный сценарий. Откуда только ты его позаимствовал?
Зуттер молчал.
— Вот тебе подлинная история человека, который разбогател. После суда над Ялу мне пришлось посещать ее в тюрьме и заниматься ребенком. Через два года я на ней женился, по настоянию Лео, своей — как это ты изволил выразиться? — «старшей жены». Бухгалтерией я занимался и раньше, но это были только цветочки. Теперь у меня появилась большая калмыцкая семья. Нашему общему ребенку нужно было брать уроки игры на скрипке. А ты знаешь, сколько стоит час занятий у Ульрики Пульт? Скрипку пришлось отложить в сторону — пришла очередь платить за интернат. Я оплачивал кровать принцессы, потом горошину, из-за которой ей понадобилась другая кровать, потом эту другую кровать, и, разумеется, платил за королевство, полагающееся принцессе. И не забудь: все это время я расплачиваюсь за презрение, которое испытывают к злому и глупому отчиму. Ему следует заняться дыхательной гимнастикой, но только в качестве коммерческого директора. Тут уж не до искусства. Я ценил в тебе сторонника соразмерности, Эзе. У наказания должны быть свои границы. Я же расплачиваюсь до сих пор, жертвуя всем, что у меня было, за портрет калмычки, который я написал по просьбе ее незадачливого супруга — написал почти задаром. Тут нечто большее, чем просто творческая неудача. Теперь портрет висит у Шпитцера, адвоката Ялу, — помнишь еще этого типа? Лео подарила портрет ему — в дополнение к солидному гонорару, который оплатил я. И висит он теперь в салоне Шпитцера — в качестве conversation piece[56]. Но за все это пришлось расплачиваться деньгами и в известной мере потерей лица. А вот за портрет, который нарисовал ты, Эзе, я расплачиваюсь своей жизнью, — расплачиваюсь за твою умело сочиненную фальшивку. Потому что калмыки и слыхом не слыхивали о полигамной семье, которую ты нам приписал. Им незнакома семья, в которой две, три, четыре женщины дружно живут с одним мужчиной. У них и намека нет на бесшабашный тройственный союз во главе с патриархом. Это твоя выдумка, но она пришлась кстати в омерзительной семье Бальмоосов. Дамы чувствуют себя в ней как рыба в воде.
— Так вот почему ты в меня стрелял, — сказал Зуттер.
Фон Бальмоос остановился.
— Что ты такое несешь?
Зуттер в двух словах рассказал о своих подозрениях.
— Я слышал о том, что с тобой случилось. Но нет, это был не я. — Он улыбнулся, и улыбка его показалась Зуттеру непринужденной. — Эзе, не будь у нас альтернативной службы, я был бы полным отказником. Я в жизни не держал в руках оружия.
Он снова остановился.
— Ты навел меня на мысль, — сказал он. — Моя младшая жена стреляет, а старшая берет у нее уроки стрельбы. Разумеется, речь идет о совершенно новой форме абсолютного присутствия духа: ты попадаешь в цель, если что-то в тебе стреляет само собой. Тогда уж не промахнешься, пуле остается лишь уведомить цель о скорой встрече. Правильно дышать или метко стрелять — для такого мастера, как Лео, без разницы.
То и дело останавливаясь, они подошли к машине Зуттера. Внизу, в долине, уже сгущались сумерки, кое-где в домах зажегся свет. На взгорьях, тянувшихся вдоль лощины и усеянных дачными домиками, еще лежал красноватый туман, с которым прощалось солнце. На ветровом стекле Зуттерова «вольво» торчал, прижатый «дворником», квиток с требованием уплатить штраф.
— Это все, что ты собирался мне поведать? — спросил Зуттер, шаря в карманах в поисках ключей.
— Нет, — ответил фон Бальмоос, — я хотел тебе сказать, что я переспал с Руфью.
Зуттер вцепился в дверцу, которую успел открыть.
— Когда?
Йорг задумался.
— Кажется, осенью тысяча девятьсот девяносто пятого, после моей женитьбы на Ялу, с последующей потерей всяких контактов: она запретила мне прикасаться к ней.
— Где это было?
— Здесь.
— Этого не может быть.
— Ты тогда уехал из пансионата, твоя газета вызвала тебя на какую-то конференцию.
Зуттер с неохотой припомнил этот факт. Речь шла о репортаже, в котором он зацепил как следует одного прокурора, и тот стал угрожать газете судом за оскорбление личности. Надо было решать, топить ли прокурора и дальше, пойти с ним на мировую или ограничиться публичным извинением.
— Ага, — хрипло проговорил Зуттер. — И как же это было?
— Я приехал сюда из Касте, — ответил фон Бальмоос, — один, после ретроспективной выставки в «Кунстхалле», в полнейшем расстройстве. Из-за разгромной рецензии, появившейся в твоей газете.
— Давай ближе к делу.
— Сначала мне нужно было прийти в себя, позволь тебе сказать. Здесь я не только совершал прогулки. Дважды я заблудился в тумане. А однажды заночевал в горах.
— Я признаю за тобой любые смягчающие обстоятельства, — сказал Зуттер.
— К сожалению, ты не сможешь этого сделать. Я тогда думал, что на всем свете нет человека несчастнее меня. Но я заблуждался. Каждый вечер я сидел на камне Ницше. Шел дождь, я этого не замечал. Возвращаясь через Плаун да Лей, я увидел женщину, одиноко сидевшую на скамейке. Я ее не узнал. Дождь лил все сильнее, у нее не было зонтика, по ее лицу текли слезы.
— Дальше, дальше, — торопил Зуттер.
— Я остановился и спросил, не могу ли ей помочь. Только тогда я узнал Руфь и набросил ей на плечи плащ.
— А заодно и обнял за плечи.
— Само собой, — подтвердил фон Бальмоос, — и проводил ее через плато.
Зуттер сел за руль. Фон Бальмоосу пришлось наклониться, чтобы не слишком повышать голос.
— Проводил до самого пансионата?
— Никогда еще я не видел ее такой убитой.
— Никогда? — спросил Зуттер.
— Мы знали друг друга до вашей женитьбы.
— Ну да, в «Шмелях».
— Нет, раньше. Она общалась с нами еще в Париже. Была близкой подругой Лео.
— Давай заканчивай, — сказал Зуттер. — Куда ты ее отвел?
— Она сказала, когда обрела способность говорить: «Это сидит у меня в груди, Йорг, мне уже не жить, я не могу говорить». — «Но ты же сейчас говоришь со мной, успокойся». — «Говорю, но опухоль осталась». — «Оставь, сказал я, никакая это не опухоль».
— Ты это сразу почувствовал, — сказал Зуттер.
— Я это определил, когда мы оказались в номере.
— До того или после?
— До, если это так важно.
— Руфь умерла не от рака груди, — сказал Зуттер.
— Что этого не случится, я мог бы сказать ей, будучи профаном в таких делах.
— Когда речь о грудях, тут ты далеко не профан, — сказал Зуттер. — И после всего этого ужаса она снова стала почти как новенькая.
— Слушая тебя, Эзе, я начинаю понимать, почему Руфь не могла говорить.
— И знаешь, отчего она умерла.
— Нет, но думаю, что виной тому ваш брак.
— Вот как?
— Должно быть, ты совсем не знал ее.
— Коли так, то мне остается только поблагодарить тебя за то, что ты соизволил переспать с ней.
Йорг стоял, Зуттер сидел за рулем, в это время мимо них проехали дрожки с пожилыми японцами; одна женщина робко им кивнула. За дрожками медленно ехал черный лимузин немецкого премьер-министра, которого вынудили отказаться от своего поста, так как уже после окончания войны он, будучи судьей на флоте в Норвегии, приговорил молодого человека к смерти за дезертирство. Что еще вчера было правом, приводил он довод в свою защиту, не может в одночасье обернуться своей противоположностью.