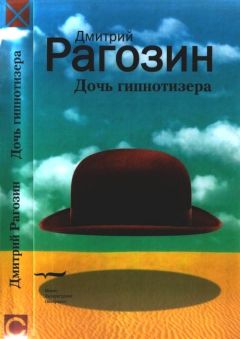Успенский хотел встать, швырнуть газеты на пол, завопить что-нибудь не вполне подходящее: «На помощь!», «Спасайся кто может!» — но остался сидеть, глядя сквозь окошко на фотографию нового корпуса санатория («строители не подкачали»).
Торопливо перебирая пальцами, он ринулся к следующим номерам.
Три статьи — три окошка.
Самое время обратиться верноподданнически к богине ревности, авось — поможет. Выведет из тупика, даст взаймы, приголубит. Она еще ни разу его не подводила в ситуациях, когда, казалось, уже не на что было надеяться. Она брала его перстами за знак вопроса и вела, вела…
Аврора Авророй, но кому могли понадобиться эти давно позабытые, потерявшие какую-либо связь с настоящим, незаметные заметки? Вероятно, злоумышленника, проникшего в книгохранилище и поработавшего бритвой, тревожило не то, что написано, а сам факт упоминания гипнотизера на страницах газет. Ведь, по сути, это было единственным свидетельством того, что нынешний визит гипнотизера не был первым. Теперь попробуй, докажи! Только когда свидетельство было утрачено, Успенский ясно осознал, что без гипнотизера, без представления, которое, увы, не наделало толков, история, какой он ее себе представлял, не имела смысла, превращалась в набор ничем не подкрепленных фактов. Конечно, он помнил общее содержание статей, но воспроизвести их текст дословно было ему не по силам. А ведь суть-то как раз не в содержании, а в словах! Он потерял звено, которое благодаря потере приобрело необыкновенную важность. Без гипнотизера вся историческая концепция, которой Успенский отдал лучшие, счастливейшие дни, освященные близостью Авроры и богини ревности, шла в тартарары, как граната, из которой выдернули чеку. С прошлым покончено, будущего не будет. Узор из уз и роз распался на отдельно узы и отдельно розы. Фабрика мягких игрушек перешла на выпуск аппаратов искусственного дыхания. Чего ждать — неизвестно. Зеркало… Почему, черт возьми, здесь нет зеркала?
Успенский захлопнул подшивку и отнес ее библиотекарю.
«Уже? Быстро вы управились! Нашли все, что нужно?»
Библиотекарь прикрыл рукой тетрадку.
Сколько лет они знают друг друга, а разговаривают, как чужие.
«Да-да, спасибо…»
Выйдя на солнце, Успенский остановился в нерешительности.
Он сказал Авроре, что поработает в библиотеке, потом зайдет за Настей в студию лепки, так что дома будет не раньше чем через два часа. Даже если она сейчас одна, его досрочное возвращение может быть воспринято как глупая выходка ревнивого мужа. А если в эту самую минуту какой-нибудь Тропинин, какой-нибудь Агапов привязывает ее к кровати, чтобы выжать из минимума максимум, тем более его внезапное появление неуместно. Меньше всего он хотел катастрофы, пусть все идет и дальше так, как шло, пусть будет семья, когда нет истории…
28
Прежде чем поставить на место книги, которые возвращал Хромов, библиотекарь Грибов внимательно их просматривал, выискивая оставленные Розой следы. Линии, отчеркнутые ногтем. Карандашные галочки, кружки и стрелки. Длинный прозрачный волос. Все, что было отмечено, он тщательно переносил в толстую тетрадь. В некоторых книгах, как, например, в «Истории глаза», это было всего лишь одно слово, а в других — в «Игитуре», в «Что такое искусство?» — отчеркнуты целые страницы. Иногда («Тяга радуги», «Сатирикон», «Анна Каренина», «Жизнь доктора Джонсона», «Робинзон Крузо») выделенные слова, переходя со страницы на страницу, выстраивались в отдельный рассказ… Библиотекарь Грибов был уверен, что все эти вивисекции текста обращены к нему лично. Уверенность появилась не сразу, но крепла день ото дня с каждой новой книгой, которую приносил Хромов — ничего не подозревающий связной. Кому еще могли быть предназначены эти строки, подчеркнутые дважды: «Спокойна пучина моей хляби; кто бы угадал, что она таит забавных чудищ! Бестрепетна моя пучина; но она блестит от плавающих загадок и хохотов». Или обведенное: «В чутье собаки, направленном на ссаки, может быть мир, равный книгопечатанию, прогрессу и tutti quanti». Или еще, отсеченное ногтем: «Всякое органическое тело живого существа есть своего рода божественная машина, или естественный автомат, который бесконечно превосходит все автоматы искусственные, ибо машина, сооруженная искусством человека, не есть машина в каждой своей части…» И наконец: «Алексей Иваныч встал и тотчас исчез». Просматривая свои записи, он убеждался, что ни одна книга до сих пор не поведала ему так много о вещах, о женщине, о нем самом. Книга обращена ко всем и ни к кому, а эта клинопись на полях предназначена для него, понятна только ему одному. Наивный Хромов! Пока он сочиняет свои худосочные, передвигающиеся на протезах истории, у него под носом происходит то, чем не может похвастаться ни один роман: воссоединение. Это такая же разница, что между сном придуманным и настоящим. В настоящем — не отличить придуманного настоящего от настоящего придуманного…
Грибов посмотрел на часы. Пора закрываться. Сунул тетрадь в портфель. Отнес подшивку газет, с которой работал бедняга Успенский, в самые дальние, самые темные, самые пыльные закрома, где им и место. Погасил свет. Повесил на обитую железом дверь замок.
В кирпично-красных сумерках казалось, что все люди одеты в черное. С моря шел запах, который обычно не решаются сравнивать с запахом бойни. Вдоль набережной зажгли фонари. Из ресторанов доносилась визгливая музыка. Дети кричали, гоняясь друг за другом в толпе гуляющих. Грибов купил на ужин банку трески в масле и батон хлеба.
На его глазах захолустный приморский городок с пустынными пляжами и шелестом сушащейся на солнце рыбы превратился в процветающий город-притон, а местные жители разделились на хищных бандитов и раболепную челядь заезжих отдыхающих. Иногда ему казалось, что библиотека, которой он заведовал, стала частью, если не средоточием криминального мира. В дальние темные углы, на верхние пыльные полки отступили сборники стихов для чтецов-декламаторов, логико-математические трактаты, путеводители, вперед лезли, нагло пестрея глянцевыми обложками, статистические справочники, словари блатного жаргона, фотоальбомы, женские романы. Конечно, никто не навязывал ему, как расставлять книги, это целиком лежало на его совести: попытка угнаться за временем, увы, он вынужден был признать, попытка, обреченная на неудачу, ибо сам он с первых, бессознательных лет своей жизни был обречен жить вне времени. Сколько он себя помнил, все его сторонились и вспоминали о его существовании только тогда, когда от него что-нибудь было нужно. Стоило ему задуматься, и он оставался один. С криком «Тебе водить!» дети разбегались и прятались. Лицом к стене он считал до десяти, но, как бы долго потом ни ходил по двору и соседним улицам, заглядывая под кусты, в железные бочки, за старые заборы, никого не было. Никого и не могло быть, поскольку все уже давно сидели по своим домам, кто за обеденным столом капризно хлебал суп, кто учил уроки, забравшись с ногами на тахту, кто играл со старшей сестрой в доктора. Туча закрыла небо. Сильный ветер трепал розы, настурции… Посыпал дождь. Ваня Грибов стоял один посреди двора, все еще надеясь, что кто-нибудь вспомнит о нем, уведет в теплое и сухое место, напоит горячим чаем с лимоном. Когда мать, работавшая в ресторане посудомойкой, в сумерках проходила мимо, она и не подозревала, что неподвижный столбик посреди двора — ее сын. В школе руки липли к парте. Учительница сидела за столом, широко расставив забинтованные ноги. Директор шел по коридору, неся в вытянутой руке ощипанную курицу. Девочки хихикали. Был у них в классе ученик, которого дружно не любили и прозвали за маленький рост и вечно недовольную сальную физиономию Клопом. Сейчас большой человек, без пяти минут хозяин города, толстый, самоуверенный, ни в чем не терпящий себе отказа. А тогда это было жалкое, тупое существо, казалось природой созданное для насмешек и унижений. Однажды Ваня, сжалившись, подошел к Клопу на перемене и предложил свой бутерброд. Клоп сжевал его молча, недовольно морщась, потом развернулся и ушел, не поблагодарив. Если даже этот изгой не хотел иметь с ним ничего общего, оставалось смириться и не рыпаться. Ваня Грибов, голодный, поплелся домой, отшвыривая ногами мелкие камушки… Прошло тридцать лет, все вокруг поменялось неузнаваемо, умерла мать, уехал отец, только он был все тем же Ваней Грибовым и так же, как тридцать лет назад, возвращался домой усталый, никому не нужный, те же пустые слова, те же чужие мысли…
Он остановился. Шел домой, а оказался, неожиданно для себя самого, возле гостиницы «Невод». В сепии сумерек янтарно светился стеклянный вход с горстью пепельных мотыльков. Узкий портик поддерживали две колонны телесного цвета, оплетенные лиловыми жилами. С улицы можно было разглядеть черные и белые плитки пола, закругленный угол конторки, лампу в зеленом колпаке. Захотелось войти, подняться по лестнице, прокрасться по коридору, постучать и, услышав ее сонный голос: «Кто там?», отворить дверь… Но что он скажет портье? Конечно, можно было бы придумать какой-нибудь предлог, что-нибудь соврать. Посылка, в собственные руки. Давний знакомый, только что приехал… Нет, невозможно. Ему было так же трудно войти, как художнику — в свою картину. Проще тенью раствориться в темноте, напитанной кровью.