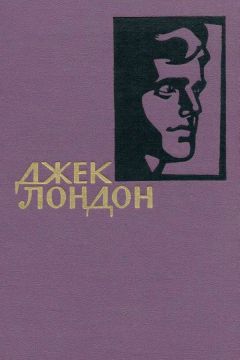‹…› Я решил повеситься утром, между пятью и шестью часами. За пять минут до смерти я сообщу тебе точный час – в тот миг я еще буду жив. Милая, тебе покажется странным, что я так спокойно пишу о самоубийстве. Мне и самому это странно. Но, поверь, во мне нет страха. Любимая, я даже не предполагал, что есть вирус вроде того, какой мучает меня вот уже два месяца, заставляя выбрать смерть вместо тебя. Два месяца назад ты была для меня самым главным человеком на свете, а теперь вирус подстрекает меня пожертвовать тобой. Уговаривает покончить с жизнью, тогда как два месяца назад я жил только ради тебя, и не было ничего важнее тебя, а теперь, любимая, важнее всего не оставаться больше в тюрьме.
‹…› Спасибо за все, любимая. За все, что ты мне подарила за эти сорок пять лет. Напомню, что мы встретились в феврале шестьдесят второго. Позволь признаться тебе – и пусть это знают наши дети, – что я никогда не был достоин тебя. Ты самая самая самая самая самая самая самая самая лучшая.
Он так и написал восемь раз слово “самая”. Последняя строчка письма – на обороте страницы.
Душечка моя, на часах семь, и я готов вешаться. Прощай, моя самая любимая и единственная.
Отец указал точный час самоубийства, как и обещал. Семь утра. Он закрепил веревку на дверце шкафа в своей камере – он описал это с ужасающей дотошностью в письме, адресованном мне, в том самом письме, которое я тогда не решился распечатать и которое сейчас, шесть лет спустя, читаю впервые.
‹…› Антонио, сынок, я уже пробовал повеситься. В прошлое воскресенье. И больше не стану пытаться сделать это на окне. Лучше я привяжу простыню к шкафу, что стоит у меня в камере. Если появятся надзиратели, они ничего не заподозрят, поскольку открытая дверь в туалет закрывает угол со шкафом. Прежде чем в тюрьме узнают о случившемся, уже успеют пройти несколько минут, к тому же охране потребуется еще две или три минуты на поиск ключей и отпирание двери: этого времени мне вполне достаточно. Если же я повешусь на окне, надзиратели сразу это заметят, и мой план сорвется. ‹…› Послушай, сынок, не держи на меня обиду, я ведь почти счастлив уйти из этой жизни. Подумай о маме. Вдруг ты выйдешь на свободу лет через пять или десять – тогда позаботься о ней. Целую твоих детей. Прощай.
В час смерти отец с удивительной ясностью, с грустью и нежностью вспомнил события, навсегда оставившие отпечаток в его сердце. Например, ту ночь, когда моя старшая сестра Нучча поздно вернулась домой и отец понял, что значит по-настоящему волноваться за ребенка. Он никогда не рассказывал об этом раньше и лишь на пороге смерти заговорил наконец о чувствах, знакомых каждому отцу.
‹…› Привет, милая моя Нучча. Хотел рассказать тебе о том, какой переполох поднялся дома, когда ты не вернулась вовремя и пришла на пять или шесть часов позже обещанного. Мы сбились с ног, искали тебя, как сумасшедшие. В какой-то миг я даже заплакал. Спроси у матери. Я плакал, стоя на балконе. Накрапывал дождик. И вот я увидел, как перед домом остановилась машина и ты вышла из нее, но я не успокоился, а заплакал еще сильнее. Теперь уже от радости. В тот вечер я сказал матери, что прощу тебе все, что ты натворила, только бы ты нашлась. Я, и правда, все тебе простил, хотя это не в моем духе. Но я ведь знаю, доченька: мне и прощать-то тебя не за что.
‹…› Нучча, родная, я ухожу. Будь счастлива, прошу тебя. Когда мама тоже уйдет – надеюсь, это случится нескоро, – поставь на ее могиле бирюзовый камень, что лежит в коричневом мешке, и не забудь вырезать на нем стихотворение Франческо Петрарки…
Ступая в бездну, отец не выделяет никого из нас, детей, поясняя каждому причины своего поступка – часто одними и теми же словами, которые бередят душу.
‹…› Кармело, сынок, я уверен, что ты приедешь забрать меня. Но не печалься, родной. Представь, будто я умер два или три года назад. Я должен уйти, голова стала плохо соображать. Да и сердце шалит, а врачи за мной не следят. После инфарктов я протянул бы лет пять, не больше, а уже прошло три с половиной. Я мог бы прожить еще год – полтора, но я отказался от лечения два с половиной года назад… ты понял меня, сынок? К тому же доводы рассудка утратили надо мной силу. Что-то подталкивает меня свести счеты с жизнью. ‹…› Прощай, дорогой сын. Да, знаю, ты будешь страдать. Но выше нос, унывать – пустое дело. ‹…› Прощай, сынок. Мы с мамой не ждали тебя, но ты все равно пришел в этот мир, и поэтому мы любим тебя особенно сильно.
В письме к моей сестре Аннализе отец просто и логично объясняет свой шаг, представляя его как шаг навстречу свободе, без которой жизнь для него немыслима:
‹…› Аннализа, маленькая моя упрямица, не грусти. Знай, что из тюрьмы, куда я заточен пожизненно, я смог бы выйти лишь через двадцать восемь или тридцать лет, если только, конечно, суд не отменит подобную кару. Ну а если приговор остается в силе, за решеткой можно просидеть лет тридцать. Посчитай как следует: 28 июня исполнится тринадцать лет моего заключения, так что мне предстоит пробыть в тюрьме еще лет пятнадцать. Да и то, если отменят пожизненное. Если нет, то мне остается еще восемнадцать или двадцать лет. Сейчас мне шестьдесят три – значит, я освобожусь лишь к восьмидесяти. Однако с двумя инфарктами я наверняка покину тюрьму раньше – правда, мертвым. Даже мысль о том, что я просижу здесь еще несколько лет, мне отвратительна. ‹…› Дочурка, через пять или шесть часов меня не станет. Но это не тревожит меня. Прости, доченька. Прощай, моя маленькая упрямица.
Упрямица Аннализа плачет и поныне, вспоминая последний телефонный звонок отца накануне самоубийства. Он намекнул ей о своем решении. Аннализа была одна дома. Юная, наивная, напуганная. Мать ушла за покупками. “Папа, но что ты такое говоришь, папа?” – пыталась она переубедить его. Она хотела звать на помощь. Хотела, чтобы кто-нибудь услышал их разговор. Но потом вспомнила, что все телефонные звонки из тюрьмы строгого режима прослушиваются. И понадеялась, что тюремщики услышали намек отца, разгадали его намерения и воспрепятствуют жуткому плану. Но не тут-то было. Отец перехитрил их. Он все продумал, никто не мог ему помешать. Теперь я понимаю смысл его последних слов, адресованных мне:
Антонио, сынок, на этом ставлю точку. Я доехал до конечной станции. Не осуждай меня, любимый сын, да и вряд ли ты теперь станешь кого-то осуждать, в особенности отца, с которым тебя разлучили два месяца назад…
Возможно, я отказался прочесть письмо сразу именно потому, что не должен был осуждать поступок отца. Я хотел сохранить о нем воспоминание как о человеке мужественном и сильном. Пусть он останется в моей памяти строгим и справедливым отцом, который иногда сердился на детей за их проступки и сгоряча даже мог поднять на них руку, ведь он слишком любил их. Но он делал это для нашего же блага, он хотел воспитать нас достойными людьми, не связанными с криминальным миром, в котором он сам увяз. И за это я любил своего отца. И продолжаю его любить.
Бессрочное пожизненное заключение
Их справедливо называют бессловесными мертвецами или потерянными душами. В итальянских тюрьмах люди продолжают умирать – по собственному выбору или из-за болезни, старости, душевного надлома. И умирают не только заключенные. Иногда кончают с собой и надзиратели, не выдерживая жуткого зрелища. И если даже они решаются на такой шаг, представьте, что творится с нами, заключенными.
Об этом я сейчас разговариваю с “секретным агентом”. Интервью продолжается, и кажется, я рассказываю журналисту то, что хотел бы рассказать всему миру.
Прежде всего замечу, что те, кто думает, будто в Италии не существует смертного приговора, заблуждаются. Смертный приговор есть. Он называется “второй пункт 41-й статьи”, предписывающий бессрочное пожизненное заключение. Этот приговор убил моего отца.
Не знаю, скольким людям известно, что значит пожизненное заключение. Не знаю, скольким людям известно, что в Италии приговор к пожизненному заключению не одинаков для всех. Одних приговаривают к обычному пожизненному заключению, других – к бессрочному пожизненному, согласно второму пункту 41-й статьи. Какова же разница?
Бессрочное пожизненное заключение назначают тем, кто замешан в убийствах, совершенных во время мафиозных войн. Если я, например, убью полицейского, или карабинера, или директора банка, или владельца ювелирного магазина во время грабежа, или, что еще хуже, ребенка, я отделаюсь обычным пожизненным заключением. Это значит, что, просидев за решеткой лет двадцать, я смогу выпросить пару дней на свободе и провести праздники дома, с семьей. Я даже смогу обрести частичную свободу, чтобы, например, поработать на воле: отпроситься из тюрьмы утром и вернуться вечером. Многие заключенные пользуются этим правом. Но только не мы, осужденные по второму пункту 41-й статьи. Мы никогда не получим подобного разрешения. Вот почему второй пункт 41-й статьи – это медленная и постепенная казнь. Приговоренным по этой статье не полагается ни одного из послаблений, предусмотренных нашим уголовным кодексом и конституцией. Мы не вправе покинуть тюрьму даже на час. Никакой частичной свободы.