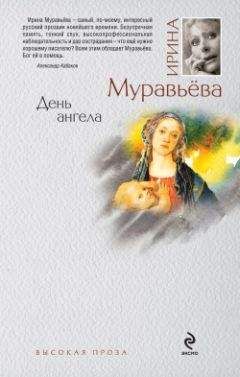Завтра мы пойдем в гости к Вере поздравить мальчика с днем ангела, отнесем ему подарки. Теперь только я догадалась, что все то время, которое прошло с Лениной смерти, Вера обвиняла меня так же, как я обвиняла ее. Конечно же, она читала эти тетради.
Настя звонила, поздравляла с Рождеством. Пишет, что часто скучает по Парижу, по его запахам. Ни разу не написала, что скучает по мне. Она не любит врать. Никогда не любила. Скорее смолчит, перетерпит, но не соврет даже из вежливости. Мой Леня был ближе к таким, как Настя. Помню, как двадцать лет назад перед самой войной от моей сестры вдруг пришло очень нехорошее, недоброе письмо, из которого стало понятно, насколько она потеряна, одинока и зла на свою жизнь. Я ей на это письмо не ответила и потом сказала, что ничего не получила. Она мне поверила, к счастью.
Анастасия Беккет – Елизавете Александровне Ушаковой
Шанхай, 1940 г.
Лиза, не нужно меня жалеть! И звать меня в Париж тоже не нужно. Никуда я отсюда не поеду. Я много работаю, мне хорошо. Чувствую, что становлюсь все больше и больше похожей на маму, и теперь понимаю, что она была права, когда говорила, что любой нормальный человек рождается дважды: один раз – физически, а второй – душевно. Я абсолютно одинока, хотя меня постоянно окружают люди и миссия наша переезжает с места на место. Сейчас пишу тебе из Шанхая, куда меня опять забросили дела. Идет война, и, как говорят все вокруг, она станет еще больше и страшнее. Сейчас это только прелюдия. Чувствуете ли вы там, в Европе, что начинается? Судя по вашим газетам, которые я, правда, не часто читаю, люди, как всегда, опасаются не того, чего следует, и думают не о том, о чем нужно подумать.
Полгода назад я написала тебе о встрече с Иваром Лисснером, и ты мне ответила спокойным письмом, в котором призывала меня образумиться, не рисковать и возвращаться домой. Наверное, мы с тобой совсем не понимаем, не слышим друг друга. Ты живешь с мужем, который тебя обожает, у тебя растет сын. Да ты и всегда была уравновешенной и благоразумной. Я слишком мало знаю Георгия, чтобы судить, насколько тебе хорошо с ним, но думаю, что ты не ошиблась в своем выборе. Надеюсь, ты не знаешь и никогда не узнаешь, что такое двойная жизнь, отсутствие любви и чувство непоправимой вины перед близким человеком.
Помню, как родители все пытались убедить нас в том, что добро всегда светло и необыкновенно притягательно, а зло всегда так отталкивающе некрасиво! Этими разговорами они стремились уберечь нас от соблазнов и искушений. Мне кажется, что с тобой им действительно удалось добиться всего, чего они хотели, но со мной они потерпели полное поражение. Бедные папа и мама! Я чувствую, что Il faut que je suis moi même,[87] вот и все. Меня трудно научить. А я, Лиза, недобрая, несговорчивая и нетерпеливая. Во мне нет любви. Или ее очень мало. Во всяком случае, никому и никогда я уже не скажу: люблю. Смерть Патрика отрезвила меня, и теперь у меня есть самое что ни на есть суровое доказательство, что вся эта ваша так называемая любовь – не более чем красивые слова. Ты возразишь, что раз у меня нет детей, то я не могу и судить о любви. Может быть, не знаю. Детей у меня нет и никогда не будет.
Теперь о моих связях, число которых тебя, ангела во плоти, наверное, ужаснет. Не стоит, Лиза. Мужчины меня очень мало интересуют. Физически я любила только Уолтера Дюранти, но он человек-дьявол, и слава богу, что он далеко. С ним у меня вырастали крылья. Наверное, если бы Патрик не погиб, мы бы и прожили вместе до старости, как ты живешь со своим Георгием, но разве это сравнить с тем, что было у нас с Уолтером, которому я, как говорила наша мама, могла «ноги мыть и воду пить».
После отъезда доктора Рабе в Европу я очень старалась забеременеть (все равно от кого) и родить. Толчком к этому, как ни странно, послужило одно незначительное впечатление: вхожу однажды в магазин вслед за женщиной, у которой на руках ребенок лет двух или трех, и вижу прямо перед собой руку этого ребенка, которой он вцепился в плечо своей матери. И вдруг меня поразило «выражение» этой руки, как иногда поражает выражение лица. Маленькая, крошечная рука эта была какой-то немыслимо доверчивой. Такой бесхитростной и доверчивой, что я чуть не расплакалась, глядя на нее, и сразу же решила, что мне тоже нужен ребенок. Как можно скорее! И пусть тогда все вокруг сыпется. Принялась менять любовников. За один год поменяла троих. Не буду тебе рассказывать о них, это не так интересно. Но, Лиза, ни одной беременности, ни разу! Пустая я, полая. Здешние врачи говорят, что у меня «инфантильная матка», есть такой медицинский термин. Ходила к китайцу, старому, с лицом оранжевым, как апельсин. Сам похож на женщину. Усадил меня на пол и начал стучать молоточком по деревянной кукле. Сказал, что эти сеансы нужно делать три раза в неделю, тогда у меня все наладится. Больше я к нему не пойду.
Нью-Йорк, наши дни
Расставшись с Лизой у подъезда неизвестной ему Оленьки, Ушаков отправился домой пешком. Венчание Сесиль Смит с Бенджаменом Сойером не выходило из головы, и особенно сильно вспоминались почему-то эти голые тонкие косточки локтей невесты, запрыгавшие под прозрачной фатой, когда она заплакала. В его парижской квартире до сих пор висит большая, выцветшая уже свадебная фотография деда и бабушки. Какой же был год? Дед его на этой фотографии выглядит нахмуренным и напряженным, словно ему задали вопрос, на который он не знает ответа, а бабушка напоминает Сесиль: такая же юная, с длинной фатой и цветами.
Умерли они почти одновременно – это он запомнил хорошо, – но лица их, их голоса давно стерлись, потемнели и истончились в его памяти, как стерлись и истончились две маленькие серебряные ложечки, подаренные ему, младенцу Митеньке Ушакову, бабушкой и дедушкой к самой знаменательной дате – появлению первого молочного зуба. На одной ложечке выгравировано: поправляйся, а на другой: будь здоров.
«Они были наивными людьми, – рассказывала мать, – с ними часто происходили смешные истории. Бабушка, например, приехав первый раз в Париж из провинции, услышала на улице ругань русских таксистов. Прибежала домой: «Подумай, Георгий, почему нас с Настей так и не научили настоящему русскому языку? Возмутительно!» И тут же воспроизвела, как разговаривают таксисты. Дед только уши зажал. А сам, кстати, тоже однажды опозорился. Он плохо знал немецкий и никак не мог запомнить самых простых слов. Однажды, задолго до войны, он ездил в Германию, встречался там со своим кузеном, который остался в Берлине, женился на немке. И вот эта немка спросила твоего деда про его первую жену, ту, на которой он был женат еще мальчишкой в России. И дед твой ответил: «Ихь хабе ди гишизен», то есть: «Я ее застрелил» вместо «гишибен» – «развелся».
Ушаков хорошо запомнил всего лишь один веселый день, проведенный с бабушкой и дедом за неделю до дедовой смерти. И это был день его ангела.
Сейчас он шел по Центральному парку, и черные деревья с повисшими на них морозными слезами, и серые облака, грустные оттого, что никто и не смотрит на них, уходящих, никто и не хочет проститься хоть бегло (хотя бы кивнуть головой: мол, прощайте!), он шел по Центральному парку и чувствовал, что каждое воспоминание далекого детского прошлого похоже на то, как бьется сердце, когда его отделяют от тела.
В Париже было тепло, как часто бывает зимою, шел дождь, мелкий, чистый, но небо печально и быстро темнело. Ушаков вспомнил, как они с матерью накрывали на стол, он вспомнил вкус скатерти, сладкий, чуть затхлый, и вкус чайных ложек, холодных и кислых, и вкус золотистого нежного света, который лила, вся в царапинах, лампа. Дед и бабушка привели с собой гостью. Она была высокой, гибкой, с маленькой, приподнятой кверху грудью. Ему особенно понравилась именно эта маленькая, вздернутая грудь и красивые ноги, обтянутые блестящею черною тканью.
И мать просияла, всплеснула руками:
– Ты, Дина?
Гостья, которую звали Диной, расцеловала его и посадила к себе на колени. Он уцепился за стол, потому что ткань на ее юбке была скользкой, как лед, и он испугался, что свалится. Потом Дина пела. И все хохотали, и он вместе с ними. Она достала гитару, подмигнула деду, и дед ей сказал:
– Сначала мадам Банжу.
Дина приподняла брови и глубоко вздохнула:
Я вам, ребята, расскажу,
Как я любил мадам Банжу,
Когда я шел к мадам Банже,
Меня встречали в неглиже…
Она пела серьезно, слегка обиженно, и даже грустная, молчаливая бабушка покатывалась со смеха.
А я бросаюсь на Банжу,
С нее срываю неглижу,
Но появился тут Луи,
Совсем разбил мечты мои.
Она, связавшись с тем Луем,
Совсем забыла о моем…
Пирог был большим, необъятным, как поле, и белым, как облако. Когда его разрезали, внутри он оказался темно-красным от запеченной (целыми ягодами!) вишни. Он весь был – как лето, последнее лето деда, которому жить оставалась неделя, холодная, зимняя, с ноющим ветром. И дед, словно зная об этом, ел много.