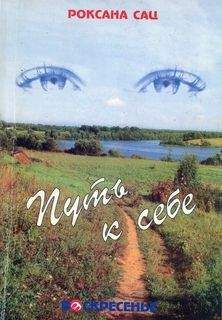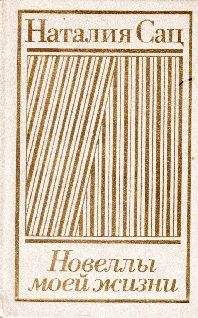Он завершил ввод послания прайм-брокеру с меньшим, чем это сделала бы Виктория, изяществом, — вызывающе ткнув пальцем в последнюю клавишу. Используемый им настольный компьютер упорядочивал, работая круглые сутки и по шесть дней в неделю, все предложения, поступавшие от всех торговых систем мира. И, откидываясь на спинку своего кресла, Даффи знал, что разбросанные по земному шару системы регистрации и оценки рисков приступают в этот миг к обработке произведенной им операции.
Ну что же, шутки закончились. Когда-то типичный, работавший с иностранной валютой лондонский маклер осваивал свое ремесло на рыбном или мясном оптовом рынке, производя быстрые подсчеты, пока люди вокруг него наперебой выкрикивали поступавшие к ним сведения. Даффи был достаточно стар, чтобы успеть, приехав в Лондон из Нью-Йорка, увидеть этих маклеров, выросших на рынках Леденхолл и Смитфилд, в деле. Его сводили тогда на ланч в заведение, называвшееся «Парижский гриль» — официантки, которые подавали там стейки и жареную картошку, были в черном неглиже. В тот раз Даффи поразили количества спиртного, которые британцы оказались способными выдувать за ланчем, перед тем как вернуться на свои рабочие места, где они, если в валютной торговле наступало затишье, заключали друг с другом пари на огромные суммы — относительно того, долго ли еще протянет папа римский или император Хирохито.
Получив подтверждение покупки валюты, Даффи обратился к тому, что происходило с Ассоциированным королевским. Цена его акций начала расти — не стремительно и даже с одним или двумя недолгими спадами, однако рост этот выглядел как подтверждение устойчивого доверия к банку. Ближе к вечеру эта активность приобрела очертания, которые дали Даффи возможность сделать несколько звонков, позволивших выяснить точные курсы двойных опционов по акциям банка. Какую роль мог сыграть в этом оживлении Вилс, он не знал и спрашивать ни за что не стал бы, однако, когда дневные торги закончились, Даффи смог послать на черный мобильник Вилса сообщение: «Ревматизм определенно проходит. Полагаю, звтр подвижность полностью восстановится».
IV
Такси, в котором ехала Софи Топпинг, свернуло на Дувр-стрит в семь. С Лансом она договорилась о встрече на 6.30, с женщинами из книжного клуба — на 6.45, стало быть, время было ею рассчитано верно, решила Софи.
В главной штаб-квартире аукционистов бывать ей прежде не доводилось, хотя однажды Софи видела ее в выпуске телевизионных новостей: обходительный джентльмен в двубортном костюме получал там чек на 10 миллионов фунтов от скучающего покупателя, приобретшего размазанное на импрессионистский манер изображение горшка с цветами.
Однако сегодня должно было состояться торжество особого рода, и голова Софи слегка кружилась от приятных предвкушений. Речь шла не о Ван Гогах или Моне, не о Старых Мастерах или кубистах; сегодня предстояло совершиться «уникальному художественному событию» — так, во всяком случае, говорилось в каталоге. Сорокадвухлетний Лайэм Хогг получил в свое распоряжение весь второй этаж аукционного здания. С благословения расположенной в Сток-Ньюингтоне галереи «Пустая доска», которой он во все годы обрушившейся на него славы хранил опрометчивую верность, Хогг решил «поставить условности мира искусств с ног на голову».
Софи пересекла длинный вестибюль, миновала гардероб и начала подниматься по мраморной лестнице. На середине ее Ланс разговаривал с Ванессой Вилс и Амандой Мальпассе.
— Рад, что ты все же добралась сюда, Соф, — сказал он, взглянув на часы. Софи его не услышала, она с головой погрузилась в разглядывание нарядов двух женщин. Обе потратили на них значительные усилия. Наряд Ванессы стоил, надо полагать, не одну тысячу — впрочем, деньги для Вилсов значения не имели; Софи узнала платье от дорогого модельера, которое видела в журнале мод, и туфельки от другого модельера, чьи творения она считала слишком хрупкими для своих крепких лодыжек. Медного цвета сумочка, с которой Ванесса появится на людях хорошо если два раза за всю жизнь, стоила еще тысячи три-четыре.
Официант предложил им коктейли буйно синего цвета, однако Софи предпочла ограничиться безопасным шампанским. Аманда тоже пришла сюда в новом платье, купленном в одном из лучших магазинов Найтсбриджа, а вот прическа ее наводила на мысль о самой рядовой парикмахерской. От расставленных по плексигласовому подносу крошечных закусок — сырого акульего мяса, карпаччо из молочного поросенка или из чего-то еще, столь же, на взгляд Софи, жутковатого, — обе дамы отказались.
Поднявшись по лестнице, все четверо вошли в переполненный выставочный зал. Софи окинула взглядом органди и деворе, синтетический и лисий мех, тафту и кашемир, скромные черные короткие платьица, украшенные горделиво простенькими жемчужными ожерельями; незамысловатые красные и золотистые платья с расшитыми лифами, на которые спадали подвитые локоны; доходящие до колен платья атласные с разрезами и две или три пары аккуратно продранных джинсов. Мужчины были одеты в костюмы ручной выделки — кто при галстуках, кто без, однако лоска, которым отличается одежда, купленная в магазинах готового платья, вокруг не замечалось. Произведенный Софи быстрый tour d’horizon[54] позволил ей обнаружить лишь несколько мужских нарядов, стоивших дороже костюма-тройки с Сэвил-Роу, — бунтарски байкерских, к коим прилагались истертые и измятые еще до их продажи башмаки. Посетители выставки стояли так плотно, что разглядеть произведения искусства было трудновато. Софи счастливо вздохнула. Она почувствовала, что траты, которых потребовали ее платье и туфли, оказались не только оправданными, но и чрезвычайно важными. Над нарядной, живой толпой она различала подобие нимба — это испускаемые рядами потолочных ламп лучи приглушенного света отражались от золота и бриллиантов, создавая жиденькое бесцветное марево.
Если верить пресс-релизу, Лайэм Хогг и персонал его студии целых полгода «трудились круглыми сутками», заполняя царственное пространство, видевшее творения Рембрандта и Тернера, Караваджо и Вермеера. Обои со стен содрали, а сами стены покрасили белой темперой. Темно-бордовый ковер, по которому еще со времен окончания Второй мировой плавно ступали столь многие туфли с Бонд-стрит, был снят, скатан и отправлен на склад. По открывшимся половицам прошлись пескодувкой мужчины в масках.
Курение, по настоянию Лайэма Хогга, здесь приветствовалось: по залу расставили несколько высоких напольных пепельниц в виде выкованных из железа напряженных фаллосов, приводивших на ум последствия прогремевшего в порнофильме взрыва. Газетные отделы светской хроники уверяли, что для создания первой отливки художник использовал в качестве модели собственный детородный орган, а затем передал этот образец профессиональному литейщику, который и изготовил, mutatis mutandis,[55] все остальные.
«Любые следы обычной галерейной атмосферы были тщательно стерты», — сообщалось во вступлении к каталогу. И верно, ничто на стенах галереи не напоминало о двух принесших ей изрядные деньги продажах — отчищенного до блеска фламандского полотна семнадцатого столетия, изображающего букет цветов, и плоских абстракций Питера Ланьона и Бена Николсона.
Теперь их место заняли произведения, которые сделали Лайэма Хогга богатейшим английским художником его времени. Здесь присутствовал «Анагноризис V» — вызов, брошенный живописцем обществу потребления: это полотно было заполнено штрих-кодами, срезанными с оберток продуктов, купленных в супермаркете. А также его прославленный, перенесенный на шелк розово-бирюзовый отпечаток фотографии, снятой во время боя Мохаммеда Али с Сони Листоном. А в дальнем углу зала можно было увидеть инсталляцию «Все, что мне известно о жизни, я узнал, никого не слушая»: столик из паба, а на нем пустая пивная бутылка, стаканы и полная пепельница.
— Пока я что-то не заметил здесь никого, кто не принадлежал бы к миру финансов, — пожаловался Ланс Топпинг. — Похоже, половина чертовой индустрии хедж-фондов стеклась сюда, чтобы побездельничать после работы.
— А вон, посмотри, — ответила Софи, — Назима аль-Рашид. Она к хедж-фондам отношения уж точно не имеет. Скорее к индустрии маринадов.
— Надо бы с ней поздороваться, — сказал Ланс. — Ее муж нам пятьдесят штук отвалил.
— Так пойдем. И не забывай, они обедают у нас в субботу.
Назима тоже заметила Топпингов и уже направлялась к ним, чтобы поговорить, — больше она никого здесь не знала. Молоток составить ей компанию отказался, пришлось ехать на вернисаж одной. Она была одета в сари яркого синего цвета, напоминавшее скорее о Белгравии, чем об Уэмбли и украшенное ожерельем из плоских золотых концентрических колец вроде тех, что были некогда найдены в гробнице одного из фараонов. Прелестно, сказала себе Софи, хотя Назима явно не сознавала производимого ею впечатления: и скорее всего, это неведенье было как-то связано с ее религией.