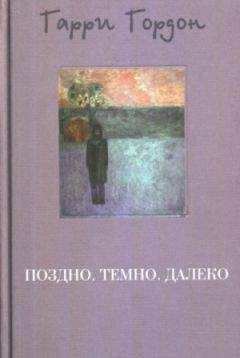— В плечах трещит, — огорчился он, — а ну, Карла, померь.
Карла примерил — подуло пятидесятыми годами, да так остро, что пришлось выпить шампанского.
— Прямо на тебя, — обрадовалась Лена, — как влитой.
— А Юрке мы подберем пальто, — копошился Володя, — вот вполне приличное.
Пальто было шикарное, ратиновое, двубортное, с серым каракулевым воротником.
Винограев пребывал в пузырьках шампанского, как в аквариуме. Мозг его дремал развалясь, а чувства, отважные и молодые, разбежались, как лейтенанты по окрестным деревням.
— Юрочка, ну-ка надень. Отлично, так и пойдешь.
Винограев взял со стола початую бутылку и пошел к выходу. Толстая бутылка в карман не влазила, шампанское выплескивалось на линолеум.
— Что за жлобство, — возмутился Репченко, — он всегда такой?
— Бывает, — переживал Карл, — не ел, наверное, ничего.
— Ленка, дай сумочку, вон ту, нейлоновую, — Володя положил в сумку непочатую бутылку, — а эту отдай.
— Ой, извините, — обаятельно улыбнулся Юрочка зеркалу.
— Пойду я с ним, — сказал Карл, — вечером принеси трудовую. Юрочка, да сними ты пальто, лето на дворе!
На улице Винограев твердым широким, с отмашкой, шагом, направился восвояси. Голубая нейлоновая сумка болталась в его руке, над седым каракулем торчали обнаженные, летние ушки.
«Догнать надо», — понимал Карл, но Юрочка уверенно удалялся, не оглядываясь. Дойти-то он дойдет, если менты не остановят, а дома…
«Как догнать, Карл Борисыч, у тебя дыхалки не хватает, вещать только можешь, благо бесплатно…»
Карл побрел к своему подъезду. Ефима Яковлевича уже не было. Карл понервничал полчаса и позвонил.
— Пришел, — сказала Эмма, — спасибо.
Легкого, парящего Юрочку занесло как-то на Северный Кавказ, горные вершины начисто лишили его остатков лермонтовского демонизма, он подружился с живыми людьми — художниками и пастухами, и в результате вывез оттуда кабардинскую княжну Эмму, ошеломленную, долго не приходившую в себя.
Эмма передвигалась по широкой Москве прямо, стараясь никоим образом не выплеснуть из кувшина ни капли чистого восхищения, перемешанного с ужасом.
Но это было трудно — Москва толкалась, со временем и Юрочка стал делать неосторожные движения — то налегал, то отталкивал. Стиснув губы, Эмма сопротивлялась, Юрочка сердился, жаловался на непонимание, но беда была в том, что Эмма, наоборот, понимала его все больше и больше.
В одном они сходились — ребенок должен быть ухожен и воспитан. Для Эммы это было естественно, Винограев видел в этом доказательство своей состоятельности.
Так или иначе, Ирочка росла упитанной и молчаливой. Она могла часами сидеть одна, рисуя, а то и просто так.
Поначалу во всех Юрочкиных подвигах Эмма обвиняла Карла, кого же еще, от кого же еще он приходил в таком состоянии, и едва ли не запрещала мужу с ним водиться, как с двоечником и хулиганом. Но постепенно, сближаясь с Татьяной, поняла, что все не так просто.
Карл не искал поводов выпить, пил с удовольствием, чаще всего со свиданьицем и за приятность.
— Если б я пил с горя, — говорил он, — я бы давно спился.
Чувствительная же Юрочкина душа горела по любому поводу, особенно, если беда — умер ли далекий старый приятель, поссорился ли с новым другом. Кроме того, существовали превратности погоды, усталость, простуда, неприятности на работе. В последнее время прибавилось Эммино непонимание.
Москва поигрывала с Эммой — то тесно обступала с каменным равнодушием, то протягивала ей какие-то непонятные руки.
Долго ее ошеломлял Универсам — толстые бабы в белых заляпанных тужурках врезались тележками в побледневшую от ожидания толпу, раздвигая ее, сминая, покрикивали, подъезжая к длинным кормушкам. На тележках лежали мертвые куры, или черное стратегическое мясо, или хеки цвета мерзлого асфальта.
Темное, как Восток, одиночество пронизывало Эмму, она отскакивала, уворачивалась, пока однажды, в голос, по-детски заплакав, не стукнула твердой, с гематомами, курицей первую попавшуюся обидчицу.
Что-то в ней изменилось с тех пор, то ли она лишилась чего-то, то ли приобрела, и Москвы бояться перестала, стала оглядываться, ей понравилась Метростроевская улица и арбатские переулки.
Винограев через многочисленных знакомых устроил ее, химика по образованию, в реставрационные мастерские. Со временем она стала даже ездить в командировки — в Великий Устюг, в Среднюю Азию.
Юрочка азартно оставался с дочкой, — ему нравились трудности, он креп морально, твердел в собственных глазах. Кроме того, с ними жила его бабушка, приехавшая из Ворошиловграда.
После очередных боев Юрочка прибегал жаловаться к Карлу. Татьяна сочувствовала обоим, переживала, но не советовать же Юре бросить пить… Карл пожимал плечами.
— Ты знаешь, я ведь и от дедушки ушел, и от бабушки. Семью бесполезно складывать, если надо — она сложиться сама, оглянуться не успеешь. Ну, если можешь, завяжи для начала. Только знаю, что так, механически, ничего не выйдет, все равно сорвешься. Вот если б ты попивал помаленьку, в охотку, и собой остался бы, и дома бы проблем не было. А не можешь — лучше разведись. Что бедную Эммку мучить.
— А я живу ради ребенка, — выпрямлялся Юрочка.
— Хорошо живешь. Думаешь, Ирке полезно на все это смотреть.
Эмма, приходя, помалкивала, или советовалась по конкретным, малым житейским делам. Получив совет, — хорошела, благодарила, и делала все наоборот.
Карла смущали все эти перипетии, давая советы, он чувствовал себя самодовольной скотиной, самозванным раввином, или парторгом. «Да кто я такой, в конце концов, чем я лучше Винограева! И дом этот, и кухня, все держится усилиями Танечки». И, спровадив домашних спать около часу ночи, — все оказались совами, — Карл сидел подолгу на кухне над листком бумаги, стараясь хоть как-нибудь оправдать свое существование.
Винограеву удалось-таки организовать еженедельные поэтические вечера в музее Лучшего поэта. И не то чтобы удалось, — он, как всегда, воевал с мельницами, — и директор, и «бабы», как он их называл, обрадовались этой идее.
Юрочка работал здесь первый год. После долгих поисков достойного места, после размытых обещаний чиновников и явных недоразумений вернулся он к ремеслу студенческих времен — скреб снег, посыпал тротуар солью, выгребал мусор. Так продолжалось несколько лет, зато теперь его неуемная общительность нашла, наконец, достойное применение — он водил по музею экскурсии, читал лекции, а его природная любовь к опрятности торжествовала: ходил он в костюме с иголочки, тщательно подбирал галстуки, ухаживал за седеющей своей бородкой.
До прихода в музей он не то чтобы не любил Маяковского, просто не знал его толком, и не интересовался, зато теперь личная жизнь «кормильца», случалось, отодвигала на задний план его собственную, и он прибегал в Карлу взволнованный, жаловаться на «эту суку Лиличку».
Чуть ли не первым поэтическим вечером в музее был вечер Алеши.
Поэт, в темном костюме, при галстуке, был неузнаваем. Небольшой, очень уютный зал амфитеатром вмещал человек сто двадцать. Карл озирался — все знакомые, полузабытые уже лица, многие из семинара Мастера.
Выступление Алеши совпало с выходом его последней, третьей книги, многие держали ее сейчас в руках, листали зачем-то, ждали автографа.
Книга вышла после большого перерыва. Мучительно долго, несколько лет, рукопись лежала неподвижно, затем неожиданно активизировался редактор, звонил, отговаривался нехваткой времени, или пил с Алешей коньяк и посмеивался над судьбой, кажется, своей тоже. Через некоторое время это ему надоело, и он быстро написал редакционное заключение, не погубив при этом ни одной мало-мальски серьезной строки.
Алеша волновался и был подчеркнуто невозмутим, читал тихо, заставляя зал прислушиваться, напрягаться, таить дыхание.
Карл знал почти все почти наизусть, но магия чтения, магия тишины заставляли его заново удивляться, мотать головой.
«А свет гнездится зрения на дне,
А слух пересыхает на закате,
И женщина, подобная цитате
Из Книги Царств, терзает память мне.
И, кажется, в картавой глубине
Полночного ее косноязычъя,
Творится что-то девичье и птичье,
Почти неразличимое извне»
— Это из старых, а вот:
«Пусть облик твой — Мадонна Литта,
А голос — фуга и токката, —
Ты только тем и знаменита,
Что я любил тебя когда-то.
Пересекла твоя орбита
Теснину старого Арбата,
Тебя сопровождает свита,
Глумлива и придурковата.
Но, по признанию Главлита,
По мнению Госкомиздата,
Ты только тем и знаменита,
Что я любил тебя когда-то»
Юрочка был счастлив. Посидев в кабинете Светланы Евгеньевны, осторожно выпили сухого вина и, порадовавшись, разошлись. Юрочка с Карлом ехали вместе — почти соседи.