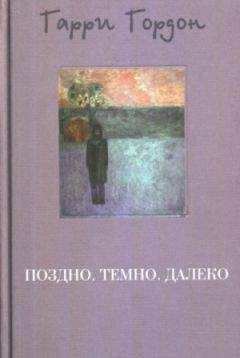Юрочка был счастлив. Посидев в кабинете Светланы Евгеньевны, осторожно выпили сухого вина и, порадовавшись, разошлись. Юрочка с Карлом ехали вместе — почти соседи.
Винограев был возбужден, мечтал охватить своими вечерами всех от мала до велика, от маститых, достойных, разумеется, до чуть ли не Карла. Карл, утомленный, помалкивал: «Так еще кружка воды», — смеется Роза, когда надо накормить борщом лишнего, неучтенного человека.
— Я друзей на друзей не меняю, — горделиво произнес Винограев непонятные слова.
Друзья менялись этой осенью, мелькали перед глазами, как будние дни: не успел уехать Вова Лосев из Питера, как приехал из Гусь-Хрустального крупный, облизывающийся Утинский. Утинского сменил Митяй, пропадавший в нетях года полтора, сибирский Есенин, мучительно карабкающийся из первозданной тьмы на неверный свет московских бульваров, завернул с Кавказа в родную деревню, наколол маме дров и вернулся в Москву, полюбив за это время «Мендельштама».
В конце октября северный ветер сорвал в одночасье листву с березовых верхушек, приехал Парусенко.
Он приехал с мороза, раскрасневшийся, как блоковская знакомая, требовательный, капризный. Случившийся при этом Магроли был сражен наповал. Парусенко тоже все понял и, не сговариваясь с Карлом, по чистому совпадению стал называть его Марголиком. Привез он малосол сига и муксуна и маленькую смешную рыбку под названием «мохтик», рассказал, что в Ямало-Ненецком округе есть озеро Вытягай-То.
Большое шумное сердце его по утрам хлопало, как парус, потерявший ветер, и требовалось не менее ста граммов, чтобы привести его в порядок.
Водку Парусенко пил за всех, нисколько не пьянея, только к вечеру, в разгар одесских воспоминаний, когда Карл скакал козлом, изображая маленького Карлика, из глаз Парусенко выкатилась одна сладостная слеза.
Пришел Сашка, Парусенко восхитился и стал его почему-то называть «наш сын», к неудовольствию Татьяны. Под закат вечера, когда были спеты все утесовские песни, и песни Шульженко, и Изабеллы Юрьевой, Парусенко признался, что награжден Орденом Ленина.
Карл вспомнил про знаменитые «сорок лобанов» и поразился: врать Парусенко стал гораздо меньше. «Неужто укатали Сивку», — подумал он и заплакал.
На следующий день Парусенко предложил съездить в ресторан.
— Да ну, — отмахнулся Карл, — Таня на работе, а я — в кабак? Да и что там делать? Ресторан — это рай бездомных, а я люблю свою кухню.
— Ну что хорошего, придет Татьяна, скажет: опять море разливанное! Дались тебе эти бабы!
Они проспорили до Таниного прихода. Парусенко стал рассказывать о расстегайчиках с бульоном, о котлетах по-киевски, о шашлыках на ребрышках, о неслыханных салатах. «Лучше б он врал», — подумал Карл.
— Ребята, поезжайте, я не поеду, хоть отдохну от вас. Давай, давай, Карлик, проветрись.
В такси было скучно, мутная розовая Москва была утыкана красными светофорами, за Большим Каменным мостом горели кремлевские звезды. «Хоть бы одна была зеленая», — подумал Карл.
В Славянском базаре было смешно — дух псевдокупечества был слаб и жалок. Внезапно вспыхивала музыка, и разговор спотыкался, был похож на езду в троллейбусе, когда пассажирская масса то швыряется вперед, то откидывается назад. Икра, правда, была свежая — Карл давно не ел такой свежей икры. Пили мало, не пилось — бутылку «Столичной», да по сто коньяку с кофе.
— Пошли, — торопил Карл, — пока вечер не загублен окончательно. Как хорошо — придем, — Таня уже отдохнула…
— Извини, старик, — ответил Парусенко. — Я поеду к падшим женщинам. А тебя в такси посажу.
— Ну и хрен с тобой, — сказал Карл, — поехали.
Швейцар нападал на Карла с распростертым пальто, настроение было испорчено окончательно.
На улице Двадцать пятого октября Парусенко посадил Карла в машину, заплатив таксисту пятерку.
— Нормально? — спросил он.
Шофер кивнул. Карл прикрыл глаза: «Ну их в баню с их толстыми мордами», — подумал он обо всех. Таксист затормозил.
— Я вот прикинул — по ночному делу до Ясенево пятерки маловато.
— Так договорились же!
— Мало что! Давай еще пять или выходи.
— И пес с тобой! Отдавай бабки!
— Какие бабки? — удивился таксист, — я у тебя ничего не брал.
У самой дверцы Карл увидел милицейского лейтенанта. Он вылез из машины, оставив дверь открытой.
— Лейтенант, — сказал Карл, — разберитесь, в конце концов. Это просто смешно.
Симпатичный молодой лейтенант поговорил о чем-то с таксистом, дверца захлопнулась, и машина уехала.
— В чем дело? — наскакивал Карл.
— Минутку, не волнуйтесь, — успокоил лейтенант и достал рацию.
Карл завелся, стал в лицах показывать, как все было. Потом махнул рукой и пошел было, но лейтенант сказал:
— Нет, постойте.
Через две минуты подъехал милицейский газик, вышел ефрейтор, лейтенант кивнул. Ефрейтор взял Карла под руку.
— Пойдем, присядем.
В машине Карл выдохнул оставшееся негодование и успокоился. Не все же сошли с ума, сейчас он все объяснит в отделении. Пахнет, правда, от него, но ведь только пахнет. Двести пятьдесят да стопка коньяка. Детский лепет.
— Что, Абгам, — сочувственно сказал ефрейтор, — кугочкой надо было закусывать…
Они зашли в небольшое полутемное помещение. Майор за деревянной стойкой посмотрел и ничего не сказал. Рядом с майором сидела женщина и скучала. Похожа на ту, из детской комнаты, когда их с Кокой сняли с трамвая. И возраст тот же, и подмышки. Только теперь она младше его.
— Вот, Людмила Павловна, установите факт опьянения.
Женщина равнодушно глянула на Карла и пробормотала:
— Состояние крайнего алкогольного опьянения.
«Слава Богу, не узнала, — подумал Карл, и тут же испугался, — что я, действительно пьяный?»
— Пойдем, — сказал ефрейтор.
Комната была огромная, под потолком тускло светила синяя лампочка, штук двадцать железных кроватей стояли в два ряда, несколько мужиков лежали ничком, один при их появлении встал и молча пошел к двери. Ефрейтор вернул его, толкнул на койку.
— А позвонить, — метнулся Карл, — два только слова.
— Не положено. Да давай, раздевайся скорей, буду я с тобой тут…
Ефрейтор унес вещи и запер дверь. «Танечка с ума сойдет», — с тоской подумал Карл и уснул.
Тихий, ласковый стук разбудил его. «Что же это?», — не открывая глаз гадал Карл. Будто девушка стучится, да осторожно так, чтобы не разбудить родителей. Опомнившись, Карл увидел в зарешеченном окне голые черные ветки. Одна из них, едва касаясь, постукивала о стекло.
Дверь наконец открылась. В одних трусах он проследовал за безмолвным сержантом по коридору в маленькую каморку, назвал фамилию и получил вещи. Одевшись, он обнаружил, что мелочь из кармана исчезла. Выкатилась, наверное.
— Место работы? — спросил дежурный капитан, записывая.
— Телега в комбинат. Ладно, это не так страшно. Там и не такое видели.
— Нет ли у вас пятака на метро?
Капитан не удивился, достал из кармана гривенник.
— Верну в следующий раз, — сказал Карл, повеселев.
— Лучше не надо. Всего хорошего.
Едва Парусенко улетел, приехал Эдик, собрался-таки. Карл встречал его на Киевском вокзале, было холодно, на перроне синели встречающие, по виду одесситы.
На Эдике была хорошая ондатровая шапка, — Жорик, наверное, дал, — теплая куртка с воротником голубого искусственного меха. Он похудел еще больше. Здесь, на платформе, он казался таким выпавшим из гнезда, что у Карла заболело сердце.
— Я был в Москве тридцать пять лет тому назад, проездом из армии, — заявил он, — она совсем не изменилась.
Эдик хромал, и при входе на эскалатор Карл взял его под локоть.
— Ты умеешь кататься на метро? — спросил он, чтобы Эдик не сопротивлялся.
— Да, — покачнулся Эдик.
— Мы тебя поправим, — сказала Таня, — будем тебя усиленно кормить.
— Что меня Валя не кормит?
— Господь с тобой, — смутилась Таня, — но ты же дома не кушаешь.
— Правильно. Ты знаешь, сколько калорий в бутылке шмурдила? Больше, чем в голубцах. Ню? — тут же спросил он.
Эдик прочно угнездился на почетном месте в кухне — в углу у окна, сидел там целыми днями, не соглашаясь полежать.
— Что я, дефективный! — возмущался он.
Роман, который он долго писал, оказался повестью в двести страниц. Были трудности с перепечаткой, машинистка стоила дорого, но в конце концов справились, Измаил отнес рукопись в Союз, показать.
Образовалась очередь, Эдику приходилось надевать глаженые штаны и ездить в город, слушать комплименты.
— Печатать нельзя, — хвалили все в один голос, — сам понимаешь, но какая свежесть, какие характеры! Ничего подобного о войне не писали.
— Ты заметил, — спрашивал Эдика «крепкий писмэнник», — там нет положительных и отрицательных героев. Поразительно.