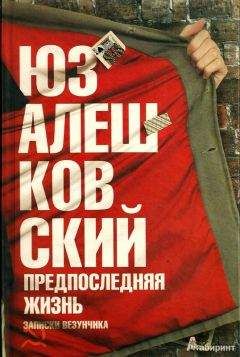«Добрый день, Василий Петрович, но я тот самый приятель Коти, он же Владимир Ильич Олух, которого ошибочно похоронили… но ведь никто нас с вами в жизни не вышибет из седла, как говорил маршал Буденный».
Видимо, писатель зашвырнул Опса ногою в комнату, откуда все равно доносился родной лай.
«Слушай ты, олух, у нас, блядский, понимаете, род, ни исторически, ни даже в данный дерьмократический момент ошибочно никого ни хуя не хоронят… а только за дело, включая сюда Крым, киллеров, заказные взрывы, аварии, кавказский вопрос, отечественную битву с Чечней, недоброкачественный крайм и разборки… еще раз подчеркиваю, в проблему въехал?.. ты маму свою буди, в гробу бы я тебя видал вместе с нею».
«Извините, Василий Петрович, скоро зайду к вам с того света, притащу бутылку с хаваниной… передайте привет Коте с Опсом, ну и Галине Павловне», — прервал я поносные речуги несчастного человека и повесил трубку… и чуть не расхохотался — так коммунально-кухонно звучала фразеология известного писателя, некогда вальяжно витиеватая, как у недалекого лакея, невольно подражавшего речевым манерам своего хамоватого барина.
Не долго думая, рассчитался с отелем, взял тачку, по дороге поменял турчеки на рубли; не замечая цен, отоварился в гастрономе, заваленном различной жратвой; выхожу у знакомого подъезда… сердчишко забилось, как тогда, когда шел к Коте, зная, что Г.П. в квартире одна… дурак я был тогда — оробел, а ведь она, милая, тоже думала обо мне… поднимаюсь на лифте… от волнения перепутываю этажи… наконец звоню… звоню долго, снова вслушиваясь в бешено радостный лай Опса, словно бы знающего, что ни жив ни мертв именно я стою за дверью… он вновь протестующе взвизгнул… слышу матюгню писателя и вежливую просьбу Коти, попросившего Опса утихомириться… дверь открывает он, Котя… остолбенело на меня уставившись, бледнеет и сползает по косяку дверному прямо на порог, к счастью, не теряя сознания — просто забарахлило у человека сердце… с трудом отбиваюсь от Опса, бросившегося лизаться… появляется, косорыло обмозговывая процесс медленного узнавания моей похороненной личности, и ищет точку равновесия полуголый писатель… на коленках — по-лошадиному выпучены древние спортивные портки, притараненные некогда из-за бугра… открыв бутылку отличного «Хенесси», вливаю Коте в рот глоток… писатель тупо раскрыл похмельное свое чмокало… жестом разрешаю ему слегка жахнуть из горла… он заглатывает и охотно сообщает: «Эт-та, ну, в общем, она, эт-та, то есть бывшая, худшая моя, так сказать, половина… ебарей она теперь сшибает в загранпоездках по офшорам…»
Хорошо, что оживавший Котя не расслышал слов папаши.
Ну хрен ли тут говорить! — понеслась: эффект аффекта узнавания, аффект эффекта выпивания за встречу со мною на этом свете и так далее.
Сидим, поддаем, выдаю Коте с папашей, ужасно-таки запаршивевшему, опустившемуся, к тому же, по его словам, «вредительски кинутому женой легкого поведения», — выдаю им обоим придуманную мною еще в самолете захватывающе остросюжетную версию насчет того, как, где, что и почему; выдаю ее, не особенно-то вдаваясь в детали и подробности.
«Еду однажды на деловую встречу с нужным человеком перетереть неожиданный поворот коммерции в сторону фуфла… вот вылезаю из тачки, даже сейчас не могу вспомнить, где именно — память частично отшибло… и все — темнота… ни удара по башке не почувствовал, ни боли, так что смело заявляю: в жизни ничего нет легче такой смерти… кранты — находишься в точке продолжения вечной бесконечности несуществования, случайно покинул которую на короткий срок… при жизни это дело устрашает, а потом необыкновенно успокаивает, но, увы, ненадолго»…
«Согласен, эт-та… оно во что бы то ни стало устраивает нашу… эт-та… концепцию международной арены», — вякнул писатель.
«Пришлось, — продолжаю, — очухаться в каком-то домишке, точней, в предбаннике старой баньки, на время ставшей родным домишком… башка-руки-ноги, доходит до меня, обмотаны бинтами… какая-то пожилая бабенка говорит, что перетащила меня сюда до приезда ментов и что я чудом выкарабкался из лап самой шкелетины, ибо трое суток валялся без сознания… тетя Тася отпоила меня какими-то травками, поясняя, что химические калики-моргалики невозможно дороги, к тому же ядовиты, поскольку выпускают их по лицензии япошек жидомасоны и китайцы для спецпоправки организмов трудящегося населения, на которое все шишки валятся… ну, раз жизнь взяла свое, я начал вставать — оклемывался… затем, — темню, — отдала мне спасительница чужой паспорт какого-то Широкова Николая Васильевича, который нашла она в пиджаке, с башкой меня укрывавшим, а то бы бездомные собаки обглодали рыло, как соседу, что досмерти замерз под Новый год… по моей просьбе тетя Тася смоталась в Москву, типа проведать, как там обстоят дела с Олухом, моим, вру ей, двоюродным братишкой… какой-то алкаш-доминист сказал ей во дворе, что сегодня Олухи и все ихнее кодло покандехали хоронить родного сына Вована, глушанутого на бандитской разборке, главное, ранее сгоревшего до основания… а затем — затем в сторонке остался от Вована один френчик с личными удостоверениями… то есть только дебил, — рассказываю, — не догадался бы, что оба мы сделались жертвами жестокой и хитрой разборки… короче, уцелел один я… дело прошлое, конечно, вполне бы мог явиться домой, потом к ментам, и все стало бы ясно… но вы же знаете, я неуправляемый, взыграла во мне авантюрная жила, кроме того, достало бздюмо, что бандиты начнут искать одного из оставшихся в живых — они бы пронюхали… жить я продолжал у тети Таси, захимичил на чужой паспорт — вот он, глядите, — свою фотку… шли бы вы, думаю, в жопу со своей перестройкой и мочите тут друг друга на каждом шагу, а с меня хватит… человек, думаю, всегда имеет право на ученье и на отдых от такого беспредела отморозков и шустрых капиталистов…»
«Вот именно, Владимир Ильич, — вякнул отставной писатель, — я тоже начал подумывать именно в данной плоскости проблемы, ибо был употреблен по первое число жидко обосравшейся программой нашей партии… пустили, понимаете, на подтирку моральный кодекс с конституцией и светлыми кадрами партийной литературы, работавшей непосредственно не на смерть, как Есенин с Маяком, а на жизнь и, понимаете, движение народа вперед… цели были ясны, задачи определены, а в данный момент, как видите, лишили вкладов, труда, доблести и геройства… вынужденно являюсь персональным ненужником, иначе говоря, опущен в некий социально-политический унитаз пересмотра идеологии отечества… да-с, плесните глоток… а что мы видим по ящику?.. там поэт-хулиган с жидовской рожей прямо по телику обращается в Мюнхене к белопогонной сволочи, в перестройку заплясавшей на наших трупах, как плясали мы на тлевших ихних костях за погостами Сиваша.
не ностальгируй
не грусти не ахай
ты не в изгнанье
ты в посланье — на хуй…
Вы могли представить такое при Советской власти, чтоб весь уровень нашего народа был послан куда подальше?.. даже Сталин не мог себе этого позволить — тут я голосую за тезис Лимончика, то есть Эдуарда, которому, как и мне, не хватает миллиарда хотя бы в деревянном эк-ви-ва-лен-те, господа офицеры… сегодня, выходит дело, ограбленный Госбанком вместе с пером, вторым после Шолохова, пребываю в однозначной ссылке, типа в том же послании как бы на общеизвестно наружный половой орган каждого — без всякого исключения — мужского члена, в чем и вижу лекало положительной демократии большинства над меньшинством… господа, боюсь, что это тост!»
«Пожалуйста, светлый кадр литературы, возьми с собой полстакана на поправку и покинь нас ко всем чертям», — довольно грубо, неприязненно и брезгливо сказал Котя, от чего я снова пожалел бывшего лакея власти, лишенного всех привилегий, целей и задач.
«Поплевываю на твое полстакание, урод смутного времени, без тебя знаю, что за столом у вас теперь я лившиц, ранее по заслугам награжден, затем обосран и все перья выщипаны… хотя до катастрофы три десятилетия содержал и обеспечивал уровень пропащей жизни семьи и неразрушенной сверхдержавы, при которой ты, паскудник, катался как сыр в масле… плюнь, более того, харкни в глаза папе за все за это, как плюнула в них, в откровенно карие, твоя мамаша… эх, взор бы мой всех вас, подлецов и путан, не видел вместе с так называемым живым трупом, сидящим дежавю, верней, визави напротив меня, как правильно высказало в рожу интеллигенции и жидомасонов зеркало октябрьской революции, не умевшее молчать… да хули там я, когда на моем месте сам Лев Толстой тоже был бы описсуарен, оскорблен ко всем хуям и вдобавок кинут на сжирание буревестникам, сиречь, дерьмовым дармоедам, если б вовремя не врезал дуба на станции, кажется, имени народной певицы Архиповой… кидаю на стол свой непаленый партбилет… если пожелаете приобрести для музея контрреволюции, оцениваю его в бутылку хорошего коньяка… жизнь, господа, бездарно пережить — это вам не футбольное поле перейти под руку с философиней, видите ли, Раиской Горбачевой… такое вот, понимаете, с легкой руки ее мужика получается резюме-безуме говенной нашей эпохи».