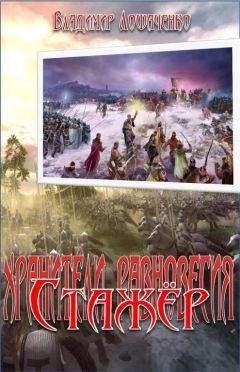– Будем, – согласился Бецкой.
Гныря проснулся и стал осматривать пистолет, зевая.
Бецкой стал у двери сарая, а Шакал прошел через двор к огороду.
По двору гуляли куры и часто гадили с такими движениями, будто собирались сделать книксен, но передумывали. Поросенок Федя сверкнул из лужи любопытным глазом и гостеприимно хрюкнул. Двор был земляным, утоптаным до твердости бетона; стояло несколько деревянных чурок, валялась оторванная кукольная голова – розовая, с пустотой внутри, с синевой, полуоблупленной с глаз.
Шакал вышел в огород и увидел собаку. Собака была отвязана. Ее звали Фрося и было ей шестнадцать лет. Собака Фрося стала незлоблива и негавкуча от старости; что свой, что чужой, ей было, извиняюсь, наплевать; последние четырнадцать лет она только и делала, что рожала; ее потомки гавкали в каждом дворе и отличались величиной и свирепостью, столь необходимыми; от постоянных родов фросин живот растянулся как одноместная палатка – мечта бедного туриста; теперь Фрося лежала, положив седую морду на белые передние коленки и грустно смотрела на входящего, ожидая, что приведут полюбившегося ей кобелька Спартака; а кобелек Спартак приходился ей прапрапраправнуком.
Шакал остановился, увидев большую черную собаку с короткой шерстью, мордой похожую на страшную Диану. Собака пошевелила ухом, но не гавкнула. Шакал пошел дальше.
Баба Клава мазала стену глиной. Этому занятию ее научила ее собственная бабушка давным-давно, а ту – предыдущая бабушка. Глина собиралась в огороде и замешивалась на навозе.
Баба Клава стояла в той свободно-скрюченной позе, которая удается только настоящим деревенским старухам, лет семьдесят проработавшим в поле, голыми руками, в основном, – в позе: голова у земли, руки работают, ноги в дырявых тапочках, а сердце поет.
Шакал подошел и услышал, что Баба Клава пела песню. Песня была неразборчива, только слышалось слово «кохання». Даже в бабе Клаве кохання еще не отпело.
– Эй, бабуля! – позвал Шакал.
Баба Клава, не разгибаясь, взглянула на него.
– Пойдем в дом, гости приехали.
– А хорошие гости?
– Лучше не бывает.
Клава разогнулась, вытерла руки от глины и посмотрела на свою работу: задняя стена кухни была обмазана неровно и с плавной выпуклостью, незаметно переходящей в чернозем – так старые деревья врастают в землю. Клава работу одобрила; пошла за гостем.
Гныря уже привязал Мызрика к стулу и сейчас читал телепрограммку. По программке были спортивные зарисовки; Гныря собирался увидеть повторение кусочков олимпиады, отгремевшей недавно. Шакал вошел в комнату и осмотрелся. Комнат было две.
Стены синие, меловые, снизу крашенные. Еще кухня за занавесочкой, а в кухне кровать, на которой сроду никто не спал, только одеяла набрасывали. Мух просто пропасть и все злые, кусучие, дикие – бьются головами в стекла. На стенке, рядом с календариком, иконка Богоматери.
Шакал подошел и снял иконку.
– Зачем тебе? – спросил Гныря.
– Уже видел такую.
– Где?
– Где! У Хана в руме.
(«Ханом» прозывали усопшего Павла Карповича, А «рума» означала комнату.)
– Ну и что?
– За ней был сейф.
– А тут?
– А тут нету.
– Ну и что?
– Сильно похожа. Подумал, что та же самая.
Он повесил иконку на место и стал привязывать бабу Клаву.
– Та ты че так стараешься? – спросила Клава. – думаешь, я, старая, убйогу? (Последнее слово она произнесла именно так.)
– Молчи, старая; не буди зверя.
Клава послушалась и замолчала.
– Нужно было привязывать нас спиной к спине, – сказал Мызрик, – тогда бы мы точно не убежали. Так я еще могу освободиться, вот посмотрите…
Он попробобовал, но освободиться не смог. Иконка шмякнулась со стены. Шакал замер.
– Что с ней?
– Гвоздик трухлявый.
– Ага. Не надо было трогать.
– Как там? – спросил Петя Бецкой.
– Там порядок. Будем вынимать?
– Вынимай, если смелый.
Все трое знали, что Валерий, кроме денег, прихватил с собой пистолет; никто не хотел лезть под пули.
– Ладно, – сказал Шакал, взял в руку грабли и подошел к сеновалу.
Стояла лесенка с двумя деревянными ступеньками, остальные были веревочными, для экономии материала. Он поднялся на одну ступеньку и пошевелил граблями сено над головой. Он ожидал выстрела. Выстрела не было.
– Осторожный, гад, – спокойно сказал Бецкой.
Шакал поднялся еще на три ступеньки и заглянул наверх.
Наверху было темно, пыльно, пахло соломой, мертвыми цветами и чем-то далеким, из детства. Опасно. Человек с пистолетом, спрятавшийся в соломе, обязательно подождет, пока ты подойдешь совсем близко, и только тогда выстрелит. Попробуй угадай, в каком месте он зарылся. Хорошо хоть то, что отсюда не уйдешь. Значит, если все делать аккуратно…
– Что, боишся? – спросил Бецкой.
– Лезь сам, если смелый.
– Не, не полезу.
– Быстрее думайте, – сказал Гныря, я с вечера не ел, есть хочу.
Он вошел в сарай и нашел на окне надкушенную свежую буханку. На буханке были следы помады.
– Надеюсь, бабуля не красится? – спросил он.
Петя Бецкой подошел и посмотрел. Он был специалистом по женщинам – огоньки в глазах, в словах и в кончиках пальцев.
Он мог раскрыть женщину по следу помады, как Холмс раскрывал преступление по волосинке кенгуру. В отличие от Шерлока, он не пользовался лупой.
– Что скажешь?
– Она не одна. Только что целовалась. Накрасилась с утра, а целовалась только что. Здесь.
– Эй! – закричал Шакал и выстрелил в сено наугад.
Никакой реакции.
– Тогда я попробую, – сказал Петя Бецкой и щелкнул пальцами. Между пальцами вспыхнул огонек. Задул. Щелкнул.
Снова задул.
– Ну и на что мне твои фокусы?
– Сено нужно поджигать, – сказал Бецкой с такой интонацией, будто уточнял что-то, и снова щелкнул пальцами.
– А деньги?
– Деньги сгорят, – сказал Гныря, прожевав кусок, – Из чего они делают хлеб, из опилок? Тьфу!
– Деньги не сгорят, – сказал Петя, – я подожгу так, что гореть будет медленно и очень больно. Никто не выдержит поджаривания на медленном огне. Они обязательно выскочат: все выскакивают. И вообще, какой идиот будет брать деньги на сеновал? На сеновал с женщиной идут не для того, чтоб деньги считать.
– Ты уверен?
– А я когда-нибудь ошибался?
Он обошел сарай по кругу и поколдовал. Особенно долго он колдовал у задней стены. Стена была кирпичной; и кирпичом была выложена узкая дорожка, отделявшая сарай от соседнего дома; дорожка поросла огромными лопухами; лопухи были мокрыми из-за тенистоти места; по листьям лопухов ползали здоровенные улитки, которые назывались Большой Прудовик. Впрочем, насчет названия Петя был не слишком уверен.
Повозившись минут десять, он поджег и с этой стороны.
Дым начал подниматься к небу – медленным, величественным столбом. В столбе сквозило желтое солнце. В соседнем доме заголосили. Петя отошел в сторону, любуясь красотой выполненной работы. Приятно чувствовать себя мастером.
– Долго ждать? – спросил Гныря.
– Час или два – насколько у них хватит терпения.
– Я с голода умру!
– Да, надо бы поесть, – согласился Шакал.
– Спроси в доме, – сказал Петя, пожал плечами и вышел из ворот.
Народ стекался.
Первыми стеклись четыре армянки: старшей было под восемьдесят, младшей – под восемь. Невооруженным взглядом заметно, как разбавлялась с годами армянская кровь кровью славянской – у младшенькой уже почти светлые волосы.
– Тушить надо? – спросила молодая.
– Не надо.
– А если на нас перекинется?
– Не перекинется, – сказал Петя Бецкой, – я обещаю.
Огонь разгорался чуть медленнее, чем Петя ожидал; это раздражало.
Вторым притек местный сумасшедший – прибежал, прыгая как кузнечик, вскидывая колени до пупка.
– Война, война!!! – заорал сумасшедший.
– Не война, а учения, – сказал Бецкой.
– А я хочу войну! – сказал сумасшедший тоном обиженного ребенка. Он говорил невероятно громко, но не напрягая голос.
Голос был слышен, наверное, даже за рекой, блестевшей у дальних огородов.
– Ты что, Шаляпин? – спросил Бецкой.
Сумасшедший застеснялся, поковырял пальцем в зубе и замолчал.
Из двора выкочил испуганный Гныря.
– Не волнуйтесь, – сказала старшая армянка, увидев пистолет, – у них просто голос такой; у всех в семье. Он говорит, а все думают, что орет.
– Баредзэс, – сказал Гныря.
– Шалом, – ответила армянка.
Третьим притек одноногий старичок – тот, который сидел на бревнышках на краю улицы. Старичок был переодет в светлый чистый костюм, причесан и напоминал дедушку Павлова, академика, на портретах тридцатых годов – в ту пору, когда светило физиологии уже затмило будущее науки лет на пятьдесят вперед.
– А я всегда говорил, – сказал старичок, – что иметь два сарая – это пожароопасно. Один обязательно нужно сжечь. Вот ты, Клавушка, и доигралась.

![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)