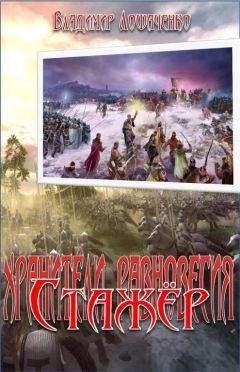Пятьдесят три года назад он делал Клавушке предложение, но получил отказ по причине малого роста. Теперь, наконец-то, он был отмщен.
– Третий подъезд, квартиры сорок один тире шестьдесят! – заорал сумасшедший.
– Вчерась из города вернулся, – объяснила самая маленькая армянка.
Народ продолжал сходиться. Сарай хорошо разгорелся. Самое время выскакивать. Или решили потерпеть, пока лопнут глаза? – все равно выскочат, все выскакивают.
Главный милиционер Гриша был на своем посту. У милиции работа такая: и днем, и ночью на посту. Ночной пост милиционера Гриши был в богатом доме местного фермера: фермера Гриша посадил, но ненадолго, а за «ненадолго», выговорил себе право жить в фермерской усадьбе и с фермерской женой; впрочем, жена была похожа на сырое тесто, разве только готовила вкусно. Посему, фермерской женой милиционер Гриша почти не пользовался.
Во двор вбежал сумасшедший, прыгая кузнечиком.
– Война!!! – орал сумасшедший.
Главный милиционер Гриша заткнул уши – это ж надо так орать.
– Не ори, а то застрелю!
– Война!!! – продолжал сумасшедший.
– Ты че орешь! – заорал Гриша.
– А я не ору, это голос у меня такой!!! – еще громче сказал сумасшедший.
– А я говорю, не ори, не доводи до греха, – сказал милиционер Гриша и прицелился для страху.
– Война!!! – снова заорал сумасшедший.
Главный милиционер Гриша был в плохом настроении: вчера скончался от разрыва печени колхозник, избивший главного агронома. Конечно, агроном был сам виноват – бил женщин коровьм кнутом, чтобы работали. Колхозник был молодым; не разумел дисциплины, вступился и отобрал кнут. После колхознику объяснили, что нужно тикать. Он и утек было, но главный милиционер Гриша поймал его у самого города и поучил дисциплине. Учил не сам, а с четырьмя помощниками.
Колхозник повалялся в больнице и помер. Хорошо, хоть говорить не мог, а правую руку Гриша ему сломал – чтобы не дал письменных показаний. Совсем народ распустился, сладу нет.
Гриша выглянул в открытое окно и увидел вдалеке столб дыма.
– Пожар, что ли? – спросил он.
– Пожар!!! – заорал сумасшедший.
Гриша надел фуражку и поправил ее молодецки перед своим отражением оконном стекле. Красавец. Голова ровная, стрижен под горшок, шея в одну линию с плечами и макушкой – настоящий казак, таких в пивных на вывесках рисуют. Только что без усов. Отрастить бы надо.
Милицейский Бобик был в ремонте, а ремонт грозил затянуться – ремонтировали в городе, а городские плевали на Гришкину власть. Пришлось идти в конюшню.
В конюшне оставалась всего одна кобыла (остальных разобрали по случай сельхозработ). Кобыла была черной, только на носу розовая полоса, да в ухо воткнута белая тряпочка, видно, больное ухо. Кобыла была стара и костлява, но вынослива, как трактор. Никто в селе не помнил, сколько кобыле лет – казалось, что она так и стояла всегда в конюшне, привязанная.
Гриша надел седло, взгромоздился и поехал. Кобыла шла довольно резво. Рядом бежал сумасшедший, подкидывая коленки.
Он молчал, напрягаясь до белизны в скулах – старался обогнать кобылу. Несмотря на все старания, бежал наравне.
– Чего тут таково? – спросил Гриша властно и народ сразу расплылся.
Сарай пылал, почти догорев, крыша уже обрушилась. У ворот стояла машина, у машины стояли трое.
– А ну чего тыт такого, я спрашиваю!!! – снова сказал Гриша и народ совершенно исчез. Последним обратился в бесплотный пар одноногий старичок.
Высокий молодой человек отошел от машины и подошел к Гришиной кобыле.
– Смотри-ка, тут еще и до сих пор на конях катаются!
– Ну! – сказал Гриша.
– Ты милиционер, да? – спросил человек.
– Ага.
– Тогда пошел отсюда.
Гриша огляделся: вокруг никого не было, только сумасшедший прыгал по кругу (помня, что после бега нельзя быстро останавливаться) и у колодца несмышленыш лет десяти боксировал с деревом. Валялся утерянный в спешке костыль. Никто ничего не слышал.
– Ну! – сказал человек.
И Гриша уехал.
– Их здесь не было, – сказал Гныря, – успели уйти.
– Может быть, – ответил Бецкой. – Это ведь человек, который сумел ограбить Хана. Это тебе не кто попало.
– Я есть хочу.
– Ладно, – сказал Бецкой, взял вилы и наколол поросенка Федю, спавшего в луже у колонки. Поросерок Федя верещал и дергал ножками.
– Ух, тяжелый, килограмм двадцать будет! – он бросил поросенка в угли вместе с вилами. – Этот быстро спечется.
Несмышленыш лет десяти подошел и теперь боксировал с сумасшедшим. На несмышленыше были боксерские перчатки, а сумасшедший кричал и отбивался зеленым кульком, подобранным в канаве.
– Господи, как он орет! – сказал Шакал и присел на ступеньки.
Ворота открыли и автомобиль въехал во двор. Разговор был хорошо слышен с сеновала.
– Да здесь они, здесь, – говорил Мызрик, – я тут с утра строю модель. Они в вот эту дверь зашли и не выходили. В сарай.
– Ты уверен? – спросил Шакал и чуть отступил от двери, чтобы не получить пулю.
– Конечно уверен, что я слепой, что ли? Вы правда его друг?
– Я его лучший друг. Он будет безумно счастлив меня видеть. А другого выхода из сарая нет? – он окинул взглядом строение: стена без окон, мазаная глиной, длинная, крыша шиферная.
– Откуда здесь другой выход? – удивился Мызрик, – кто ж вам будет потайные ходы в сарае строить? Да заходите, они точно здесь. А вы Тамарке тоже друг?
– Спасибо, – сказал Шакал. – Раз он здесь, то я его увижу.
Он вошел.
– Ты видишь, как мне везет? – спросил Валерий.
– Подожди.
Во дворе что-то происходило. Открылась и закрылась дверь в дом. Несколько минут было тихо. Потом вышли люди, переговариваясь. Судя по их словам, они собирались поджигать сарай.
– Ты видишь, как мне везет? – снова спросил Валерий.
– Я вижу, но не пойму почему. Я не пойму, как Мызрик мог догадаться.
– Ничего он не догадывался, твой Мызрик. Он просто растяпа. Поэтому и не запомнил в который сарай мы вошли.
Валерий тихо засмеялся; невеселым, неприятным смехом.
– Повезло, что сарая два, – сказала Тамара.
– Повезло, что сарая два; повезло, что брат у тебя –
Мызрик, только он мог перепутать; повезло, что он был слишком занят своими моделями, чтобы посмотреть, в которую дверь мы вошли. Не слишком ли много случайного везения?
– Слишком, – согласилась Тамара.
Валерий начал ее обнимать; она не сопротивлялась, опасаясь шума.
Потянуло дымом.
– Они подожгли другой сарай, – сказал Валерий, – какие болваны!
– Это все-таки наш сарай!
– Построите новый, денег хватит.
– Я сама помогала его строить – носила кирпичи и месила глину. Там в соломе кошка вывела котят. Тебе хоть котят жалко?
– Кошка с котятами сбежит, – сказал Валерий, – не волнуйся. А вот мне стало скучно, а тебе?
Он стал обнимать ее настойчивее; Тамара снова ощутила полную несособность сопротивляться – паралич воли.
– Нет, не надо, – шептала она и видела себя со стороны, и понимала, что точно так же шепчут другие женщины и всегда шептали так, и всегда будут шептать, и этот шепот ровно ничего не значит для мужчины.
Собирались люди, кто-то кричал на улице (кричали о войне и о номерах квартир, как ни странно), потом вроде бы приезжала милиция, потом сарай сгорел. Был слышен еще визг поросенка Феди. Этого Тамара не выдержала и заплакала.
– Почему плачешь?
– Они его зарезали.
– Ну и правильно. Свиней для того и держат.
– Ты ничего не понимаешь. Это был ручной поросенок, очень умный; он даже ходил по комнате раньше и будил бабу Клаву, когда хотел есть, стаскивал одеяло на пол. Он все слова понимал, лучше чем собака.
– Свиньи грязные.
– Свиньи грязные, только если с ними обращаются по-свински. Я его любила.
– Его зарезали бы все равно, – сказал Валерий, – но я тебя понимаю, конечно. Но эта твоя сентиментальность иногда…
Он пожал плечами.
Он сел на соломе совершенно открыто, накинул рубашку, взял сумочку и начал пересчитывать деньги. Он был спокоен, как статуя.
Послышался шум.
– Рухнула стена, – сказала Тамара.
– Да, наверно. Нам надо бы с тобой сфотографироваться; у нас же нет ни одной общей фотографии.
Тамара посмотрела на него, как на сумасшедшего.
– Что ты на меня так смотришь? Ничего страшного не происходит, ну сгорел сарай, ну не делай, ради Бога, трагедию! Я скоро растаю от твоих слез.
Он встал, надел брюки и стал смотреть в окошко, совершенно не скрывая своего лица. Тамара тоже стала одеваться.
– Уехали, – сказал он. Идиоты. Ты еще до сих пор не пришла в себя?
– Там ведь бабушка.
– А что бабушка?
– У нее больное сердце.
– У всех больное сердце. С больным сердцем не тянут такое хозяйство, как у нее.
– А она тянула, – сказала Тамара, – и вообще, я запрещаю тебе плохо говорить о моей бабушке! Ты ничего о ней не знаешь!

![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)