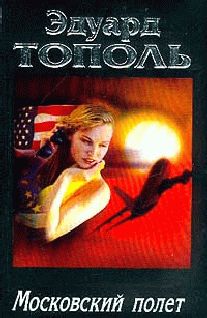Портрет «хозяина» уступил нам путь и пролетел за левым окном.
А дорожный знак сообщил, что до аэропорта осталось два километра.
– Вы камикадзе,– сказал я Татьяне.
– Вы имеете в виду вступление в компартию? – спросила она.
– Я имею в виду все! Вы все тут живете, как камикадзе. Но это интересно. Если можно, завтра мы продолжим беседу. – Вы же летите в Ленинград! – сказала она. – Завтра утром я буду в Москве. Она посмотрела на меня, но промолчала. На войне как на войне – чем меньше знаешь о планах соседа по фронту, тем легче будет, если попадешь в плен к противнику.
У трапа советского «ИЛа» дежурная по посадке сверяла наши лица с фотографиями в паспортах и галочками отмечала в своем списке каждого члена делегации.
– Вам привет от моей мамы, – сказала мне наша гидша Оля, проходя мимо меня по проходу в конец салона.
– Спасибо, – ответил я, поняв ее намек. Оля оказалась права: если бы я не сел в этот самолет, КГБ и московский угрозыск немедленно стали бы искать меня по всей Москве.
Мы взлетели. При наклоне крыла внизу, за иллюминатором, открылась вся Москва. Наши стали щелкать фотоаппаратами, целясь в основном на Кремль, ясно видный даже через городской смог. И никто не кричал им, как когда-то, лет десять назад: «Нельзя снимать! Прекратите! Отдайте камеры!» Гласность, черт возьми, подумал я и отыскал глазами совсем другую часть города – юго-восток. Там, укрытые маревом заводских дымов, были Кабельные улицы, и среди них, на Второй Кабельной, – дом номер 28. Конечно, сверху, с такого расстояния, я не видел этого дома. Но почти трое суток – 60 часов! – я был от этого дома всего на расстоянии двадцати минут на такси. И у меня не хватило духа съездить туда.
«Guts [Мужество]», – подумал я по-английски, вот точное слово. Guts тебе не хватило, вот что! Но почему? Только потому, что Аня постарела за эти десять лет, как постарели все мои остальные московские знакомые? И вместо прежней Белоснежки меня встретит пожилая располневшая сорокалетняя женщина с толстыми синими венами на ногах?
Черт возьми, мне уже тоже не 25! После десяти лет разлуки быть от нее всего в десяти километрах и улететь вот так, молча, как последний трус?
God damn, я должен вернуться в Москву! Я должен вернуться первым же поездом – не ради Ельцина и Гдляна, нет! А ради Ани и самого себя.
– Можно здесь сесть? – Дайана Тростер, не ожидая моего ответа, села в соседнее кресло. – Я хочу… я хотьел… спасибить вас, Вадим.
Я изумился:
– You speak Russian?
– Немношко. Но я не знать, как делать глагол from «спасибо». But anyway I'd like то thank you for yesterday. You saved my life. And my money – almost all of it was in the hotel safe. I don't know how то repay you. [Но как бы там ни было, я хочу поблагодарить вас за вчерашнее. Вы спасли мне жизнь. И деньги – почти все деньги были в гостиничном сейфе. Я не знаю, как я могу отблагодарить вас].
– О, это просто! – сказал я по-русски. – Ты купишь мне дринк. Водку с тоником. Понимаешь?
– Понимайу, – ответила она и улыбнулась впервые со вчерашнего вечера. – How about double [Как насчет двойной порции]?
– Двойной? – я притворно задумался. – За double ты расскажешь мне секрет семейного счастья. Ты ведь замужем, верно?
– О, yes! – сказала она и по-русски остановила стюардессу: – Мисс! Дайте нам, пошалуйства, два double водка с тоник.
– Что-о??? – возмутилась стюардесса. – У нас не пьют в самолете! Это вам не Америка.
Вы когда-нибудь были у психиатра? Я не могу себе представить писателя, который ходит лечиться к психиатру. Зачем? Самым лучшим психиатром для писателя, даже если этот писатель действительно шизофреник, является пишущая машинка. Или word processor. А точнее – неизвестный читатель, которому чepeз word processor писатель отдает свою боль, гнев, тоску, отчаяние, мнительность и дурные миражи подсознания. Кстати, радость, наслаждение и прочие ощущения счастья не входят в этот список. Немыслимо вообразить Достоевского, который с радостью садится писать «Преступление и наказание». Я был у психиатра три раза в своей жизни. Но первые два не в счет, потому что это были визиты к гипнотизерам, которые излечивают от курения. Как человек слабовольный, я не мог избавиться от этой болезни сам и решил купить себе чудо. Тем более, что в газетном объявлении цена на это чудо была не очень большой – 70 долларов. Первый гипнотизер – русский – погружал меня в сон индивидуально больше часа, но так и не погрузил – выйдя от него, я тут же закурил. А второй – американец – был таким сильным гипнотизером, что принимал пациентов сразу группами. И он действительно погрузил всех в сон буквально на второй минуте. Я это видел собственными глазами, потому что я был единственным, который не уснул. На пятой минуте гипнотизер посмотрел на меня и сказал, что я могу идти к его секретарше и получить свой чек обратно.
Я понял, что я безнадежен интернационально, оставил всякие попытки избавиться от курения и продолжал работать в сигаретном дыму, среди пепельниц с окурками и чашек крепкого кофе по-турецки. Как я уже писал, сорокалетнему писателю, приехавшему в Америку из другой страны и почти не говорящему по-английски, нужно работать, как волу, чтобы пробиться на американский книжный рынок. Но только люди, сделанные из кинжальной стали, могут работать дома, заставив своих домашних не петь, не слушать радио, не включать телевизор, не греметь на кухне и т.д.
А я не стальной, не чугунный и даже не железный. Пока я пишу, пока стучу по клавишам своего Compaq, я постоянно ощущаю у себя за спиной, в других комнатах, жгущее мой затылок поле ненависти. Это моя жена ненавидит меня за то, что я не подмел квартиру, не вымыл ванну, не сварил обед и плохо вымыл посуду. Потому что самой заниматься домашним хозяйством – это ниже ее достоинства. Ведь она актриса!
– Еще обслуживай вас! – говорит она дочке, когда та просит ее о чем-то.
Стиснув зубы, я сижу за компьютером и говорю себе: «Не вмешивайся. Молчи. Работай».
Но поле Лизиной ненависти прожигает стены, давит мне в затылок, врывается в плоть романа и, черт возьми, провоцирует там, в моей миражной России, гражданскую войну, национальные восстания и рабочие забастовки, переходящие в резню коммунистов. Я пытаюсь сдержать это кровавое развитие истории, свернуть свой сюжет в мирное русло, но тут приходит Хана:
– Папочка, мне скучно. Ты можешь пойти со мной погулять?
– Погуляй с мамой. – Мама занята, она не может. – Чем она занята?
– Она смотрит «The Young and The Restless».
Я выключаю компьютер и иду с дочкой гулять. Лиза смотрит «The Young and The Restless», «As the World Turns» и прочую муть и считает, что так она учит английский язык и специфику американского театра. Разве можно прервать этот великий процесс?
Совершенно естественно, что из-за этих прелестей быта я порой по месяцу не прикасаюсь к своей жене. Она от этого бесится еще больше или садится в машину и, не сказав ни слова, уезжает куда-то на весь вечер, до поздней ночи. О, как хорошо, как тихо становится в доме, когда нет рядом этого облака ненависти! Даже если она завела себе любовика – мне плевать! Я купаю дочку, укладываю ее спать, читаю ей книжку, а когда она засыпает, опять сажусь к своему компьютеру, к его уютному и все понимающему зеленому экрану…
Но иногда я взрываюсь. Или Лиза взрывается, Или мы взрываемся одновременно. Это типично семейный взрыв, когда повод для скандала совершенно неважен, его и вспомнить потом невозможно, а просто критическая масса взаимной ненависти уже переполнила емкости наших тел. Между прочим, такие же скандалы я слышу почти каждые три дня и в соседних домах, а потом, наутро, мои соседи в обнимку выходят во двор и жарят гамбургеры.
Но у меня с Лизой почти не бывает перемирий. Потому что любое перемирие должно означать мою полную капитуляцию, а именно:
1) стопроцентное признание Лизиного права спать до десяти часов утра, а потом весь день смотреть «The Young and The Restless», «As The World Turns» и прочую мыльную телемуть;
2) радостное исполнение (мной) всех супружеских обязанностей, включая мытье посуды, стирку белья, уборку дома, закупку продуктов, кормление дочери, доставку ее в детсад и обратно, а также еженедельные вывозы обожаемой жены на social events (социальные рауты] и ее еженощное сексуальное обслуживание;
3) незамедлительный наем постоянной домработницы-няньки, которая избавит наконец Лизу от ненавистной ей домашней работы и позволит ей полностью сосредоточиться на реализации ее творческих замыслов.
За десять лет нашей совместной жизни мне только один раз удалось сочетать выполнение этих условий, да и то недолго – ровно два месяца после получения аванса за «Пожар в тайге». А через месяц после исчезновения этого аванса (а также домработницы и летней дачи на берегу моря, куда так охотно приезжали наши друзья) меня по ночам стали снова терзать когтистые черные пантеры, а днем я ощутил за своим затылком до боли знакомое поле ненависти. Тут я опять взорвался и от безнадежности своей супружеской жизни даже брякнулся с разбегу головой о стенку.