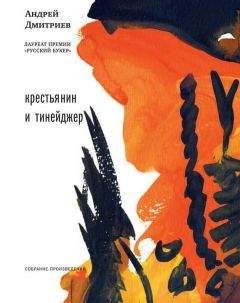…Над соснами, под вздутой лампой фонаря, среди мошки и пыльных бабочек, в волнах пылающего света плавал комар. Жар волн грозил его спалить, но свет и жар вливали в него силы. Комар обязан был успеть покинуть море света до того, как его крылья примутся сворачиваться от избытка жара, но и не прежде, чем его тельце наберется силы света и тепла… Когда же волны света выплеснут его, он упадет в холодную густую мглу сосновых лап, затем спланирует к конюшне, под скат кровли, из-под которой поднимается и расплывается над соснами плотный и сытный запах лошади… Комар купался в световых волнах, вбирая терпеливо лошадиный запах, и ждал, когда его от голода обмякший хобот станет достаточно упругим для того, чтобы уверенно войти сквозь шерсть и кожу в лошадь, найти под кожею пульсирующую жилу, пробить ее и выкачать из жилы столько крови, сколько достанет, чтобы наполнить себя кровью до краев, до одури, до смерти.
Шурша своей мохнатой пылью, ночные бабочки бились в лампу и лопались на лампе с мокрым треском. В ответ гудению лампы недомерки-мокрецы полнили волны света своим гудением. Комар один не тратил сил, молчал и даже крыльями не пошевеливал, отдав всего себя питательной воле волн… И вдруг он крикнул, поначалу недоверчиво и коротко, но так, что хор гудящих мокрецов умолк. Все волоски на крепкой и пустой груди восстали, пустой живот затрясся и затрепетал, как стяг, и зазвенели крылья на свету, и хобот комара, весь изогнувшись, заныл, как тетива. Поняв в недолгой тишине: не показалось, — комар вновь закричал, и тонкий крик его, пронзая свет и тьму вокруг, уже не умолкал.
Сквозь тянущийся из мглы добротный лошадиный дух вверх прорывался всплесками иной и небывалый запах. Память всех прежних поколений комаров провыла в комаре: не медли! — этот дивный дух, не сбывшийся в короткой жизни слишком многих комаров, редок, как дар, но и недолог: еще всплеск снизу, и еще, еще, — помедлишь, и не будет больше всплесков!.. Не прерывая крика, комар упал в холодную сырую мглу — навстречу самой редкой и желанной из всех своих возможностей погибнуть.
…Вцепившись в изгородь обеими руками, Майя вначале не могла избавиться от мелких, как мошка, досадных опасений. Ее тревожило, что изгородь скрипит, и этот скрип разбудит сторожа конюшни, ведь быть не может, чтобы лошадей никто не сторожил… Ее все больше беспокоил ноготь указательного пальца, вдавленный в жердь так криво, что готов был обломиться, но и заняться ногтем, рискуя оборвать ту нить, что ткал горячий позвоночник в такт челноку внизу, было немыслимо… Злил комариный писк над головой; злил страх: челнок вот-вот прервется иль собьется, нить лопнет, и потом ищи, вяжи ее концы… Но нет, он не сбивался; нить звенела; Майя сильнее сжала жердь, — и ноготь обломился. Усилием желания ей удалось себя заставить не досадовать о ногте; но тут комар с налету впился в шею, и стало страшно, что он вот-вот обрубит нить… Майя была близка к отчаянию, но не учла, к чему уже был близок в ней Стремухин. Так близок, что все опасения ее рассеялись, она забыла обо всем, забыла и о ногте; потом забыла и о комаре.
Туман вплыл в кухню и разбудил Стремухина прохладным, мокрым, как компресс, прикосновением к лицу. Сон был горяч и вязок, будто вар, а пробуждение было зябким. Сбросив с себя какой-то прелый ватник, встав с досок пола, на которых и провел остаток ночи, Стремухин вышел наружу. Сквозь серые сырые облака тумана он на нетвердых, ватных, как туман, ногах повлекся к соснам: там, в стороне от троп, был скрыт от глаз сортир. В лесу вата тумана, изорванная ветками в клоки, стелилась под ногами. Капли воды сверкали на иголках сосен, воздух был сух. Стремухин запоздало ощутил: рубашка не просохла, брюки волглы. Как плыть ему в Москву в сырой, изжеванной одежде, облипшей тело, он старался и не думать. Не сразу поборов в себе соблазн обпачкать Бухту под кустом, он все ж вошел в несвежий нужник. Устроился над черною дырой бездонной ямы, зажмурился и выдохнул, стараясь больше не вдыхать. Замер и вслушался в свист птиц.
Когда Стремухин снова был на берегу, туман почти рассеялся.
В тени киоска Карп выдергивал из мха шнуры и колышки брезентовой палатки. Тут же, в тени, уныло мялся на коротеньких ногах неведомый Стремухину небритый человек. Кивнув Стремухину, дернув за шнур и тем обрушив вздутый брезент наземь, Карп стал допрашивать небритого:
— Я тебя куда посылал?
— За водой.
— Я уж решил: за смертью… Где вода?
— Привез.
— Откуда? Из Педжента своего?.. Я тебя когда посылал?
— Вчера.
— Так, а сегодня что?
— Сегодня.
— И где ты был?
— Машина поломалась, я говорил уже, пришлось чинить немного…
— Где поломалась?..
Стремухин, недослушав, вышел к воде. Возле воды спал Гамлет на узкой деревянной лавке, вытянув тело во всю длину доски, уткнувшись головой в колени жены. Склонясь над ним, Карина гладила его по голове.
Майя бродила в стороне по водной кромке.
Стремухин подошел к ней и сказал:
— Не помню, как уснул.
— Вы вчера выпили еще, когда вернулись, и мы вас уложили, как смогли.
— А вы?
— Я не спала, сидела здесь, на берегу, и думала о всяком.
Стремухин не спросил, о чем она думала, лишь удивился:
— Что? Так до утра одна и думали?
— Нет, я еще болтала с рыжими. То с ним, то с нею. Они в киоске спали, но не вместе, а по очереди. Она спит — он, бедный, мается на берегу. Потом он спит — она здесь бродит и сидит. Так оба и не выспались. Смешные дуралеи. Сейчас бегают по лесу, прогоняют сон.
— Летчик, я вижу, улетел.
— Да, как проснулся у себя в кабине, так сразу и завел мотор. Всех нас перебудил своим винтом. А вы так спали, что не слышали.
Стремухин, повернувшись к ней спиной, опустился на корточки. Обтер мокрым песком и сполоснул в воде ладони. Потом набрал воды, поднес в горстях к лицу, плеснул в лицо и отвернулся. Ладони пахли мясом. Скогтив брезгливо пальцы, поглядел на них и выругался:
— Черт, въелась вонь от шашлыка!
— Запах греха, — сказала Майя, нервно хохотнув, и пояснила: — Я у кого-то прочитала, что руки после шашлыка пахнут грехом. А вы чего подумали?.. Вы лишнего не думайте, вам ведь это ни к чему.
— Я и не думаю, — ответил ей Стремухин, не глядя на нее. — Купаться будем?
Майя поежилась и отказалась.
Стремухин снял с себя сырую продымленную рубашку и сбросил на песок сырые брюки. Пошел вдоль заводи, дрожа и не решаясь войти в воду. Гадал без любопытства, в чем причина его жестокого озноба: в утренней сырости или в обычном бодуне. Его и не мутило, и не болела голова, но саднящее изнутри, не отпускающее ни на миг чувство вины изобличало все-таки похмелье… Стремухин вбежал в заводь и, зажмурившись, нырнул. Он ждал ожога и ошибся: его ждало парное, мягкое тепло. Он в нем размяк и, плавно вынырнув, едва не задремал, вдруг ощутив себя не в заводи, а в своей ванной на Одесской улице.
Потом сидел на берегу и обсыхал, поджав к груди колени. Озноб вернулся, и вина опять саднила. Его похмельный опыт был велик, и он привычно спрашивал себя: «Чего вчера не нужно было делать?». Столь же привычно и заученно себе же отвечал: «Всего». Обычно это помогало, и вина, довольная, что своего добилась, отступала. Стремухин ждал, когда вина уйдет, но на сей раз она не уходила, будто решила не поверить и настоять на его искреннем и внятном сожалении. Стремухин разозлился и с вызовом сказал себе, что, в сущности, он вправе и не сожалеть.
«Разве я сделал что не так? Разве я вправе себя в чем-то упрекнуть? — поддразнивал недобро он себя, дрожа и колотясь в ознобе. — Я просто кое-что себе позволил после того, как слишком многое себе не позволял. Я долго, целый год себе не позволял!.. Другое дело, что не нужно было мне тогда звонить ей, гнать к себе сквозь всю Москву, пугать смертельно своим страхом; не нужно было доводить ее до паники; другое дело, кто же мог сказать, чем все закончится?.. Другое дело, что не нужно было мне, когда она лежала и глядела в никуда своими страшными глазами из фарфора, ругаться вслух, воюя с пылью: вдруг она слышала, как я ругаюсь? вдруг ей хотелось слышать не ругательства мои, не завыванье пылесоса, но совсем иные звуки?.. Конечно, она вряд ли могла слышать, но она, другое дело, могла думать, и тогда уж точно думала о том, как с ней могло такое приключиться, и тогда точно вспоминала, как я когда-то был женат, как моя бывшая жена грозила ей: „Не смейте доводить меня, иначе я сама вас до инсульта доведу, вот и не доводите!“, — и как я брал принципиально сторону жены и объяснял потом степенно, из каких принципов беру я сторону жены… Другое дело, я давно развелся, но если стал ты, слава богу, вновь свободен, мог бы почаще заезжать на Беговую, вместо того чтоб, что ни день, поить друзей настойкой хрена…»
Другое дело, я устал, сказал себе Стремухин, когда озноб улегся и одежда чуть подсохла.
Одевшись и ни с кем не попрощавшись, даже забыв о рюкзаке с пустой кастрюлей, он тяжело добрел до пристани и сел на краешке ее. Болтая над водой ногами, он убаюкивал себя: «…Устал за этот год, за эту ночь, устал за полчаса борьбы с ознобом. Плох не бодун. Худо не то, что я здесь, в Бухте, вожжи отпустил. То худо, что я нервы отпустил. Хотелось легкости; вспорхнул; влип в тяжесть; как теперь мне вытряхнуться из нее?».