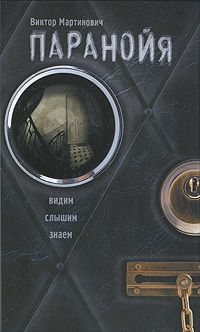Анатолий остановил его так:
— Николай Михайлович, в ту ночь, когда мы с ней поссорились, она сказала, что беременна от вас, что носит под сердцем вашего ребенка. Мы потому и…
Муравьев вскинулся еще больше, он был удивлен, вот только понять бы еще — насколько искренне.
— Моего ребенка? Что за глупые фантазии. Послушайте, давайте я вам расскажу о Лизе. Я для нее играл, понимаете? Она была моей слушательницей. Я играл ей на фортепиано, когда мне было грустно. Мы собирались, и я ей играл. Она, конечно, фантазировала. Она говорила, что мы с ней поженимся, я разведусь, брошу пост министра, — именно в такой, заметьте, последовательности. Но это она… В шутку. Наши отношения… Никогда не приобретали двусмысленности, хотя она иногда плакала, когда я ей играл. Мы никогда не… Я не буду вас ни в чем убеждать — это не в моих правилах. Ну а что касается ее фантазий, то мне, извините, пятьдесят пять, какой развод, какая отставка? Она сама, кажется, шутила. Я знал, что она найдет себе рано или поздно… Такого, как вы… Искренне желал… Моей девочке счастья. Я записал на нее несколько домов и машин, чтобы она не горевала, — я ведь тоже не вечен. И вы появились. И у нас был. Разговор — ровно такой, каким я себе его представлял, — я рассказал о сыне, она — о вас, она еще сказала, что очень вас любит. Я пожелал вам счастья и обещал, что сыграю вам двоим на вашей свадьбе, но это, если честно, было враньем.
Анатолий чувствовал, что машина, кажется, едет слишком быстро — его мозг не успевал за этой скоростью, хотя какая–то ясность уже начинала приходить, и от этой ясности становилось тошно.
— Погодите–погодите. Все это — не так. Я, кажется, начинаю понимать. Она никогда не говорила мне, что меня любит. А вот о вас… Я думаю, — его голос не успевал за его мыслями, а мысли пытались словить что–то еще более быстрое и важное, и эта гонка была мучительна, — она любила вас все это время, когда мы с ней были вместе. Конечно же, только вас! Я ей нужен был как ваше продолжение, с которым возможны были двусмысленности.
И тут с Муравьевым стало происходить нечто необычное. Кажется, Анатолий внес диссонанс в задуманный и уже приведенный в исполнение план.
— Да что вы говорите? — вскрикнул он. — Мы с ней говорили о музыке, обменивались шутками, какими–то письмами, знаками…
— Не сходится, Николай Михайлович! Она говорила мне о вашей нежности и ваших ласках. Она рассказала о розах. Неужели вы думаете, что после такой истории девушка будет слушать вашу игру, не принимая ее на свой счет? Она вас любила, неужели вы не видели этого? Мне очень горько от того, что я до самого конца не смог ей заменить вас. Во многих смыслах ребенок действительно был ваш…
Муравьев сорвал с дверной ручки телефонную трубку на длинном витом проводе и крикнул в нее: «Здесь!» Кортеж стал резко тормозить, не прижимаясь к тротуару, в окне на миг показалась тупая морда машины сопровождения, салон осветили отсветы мигалок. Муравьев смотрел в сторону, а Анатолий — не понимал. Он не мог понять, что происходит и почему все то, что было больно для него, стало вдруг непонятно больно и для человека, которого она любила. Массивная дверь отползла в сторону, и в проеме показалась фигура телохранителя. Муравьев кивнул ему, и тот, положив согнутую в колене ногу на сиденье, полез внутрь, за Анатолием, и именно так Анатолий понял, что разговор закончен и ему нужно уходить. Все здесь делалось вручную, даже приглашение и удаление собеседников, и было в этом что–то первобытное, но думать сейчас нужно было не об этом — он развернулся К сжавшемуся в кресле Муравьеву и наклонился.
— Храни вас Господь, — сказал министр из–под пятерни, спрятавшей его рот и большую часть лица, и неужели такие люди, как министр государственной безопасности, могут плакать?
Кортеж рванулся вперед, как табун лошадей, — с грохотом и ревом двигателей, и одна из машин сопровождения лихо пронеслась в полу сантиметре от бедра Анатолия, и он отступил назад — прямо под колеса другой, и она даже не думала выкручивать руль, и он чудом не был сбит, и лицо, торчавшее из–за направленного вверх автоматного ствола в ней, ржало.
Он остался посреди совершенно пустого шестиполосного проспекта, мигалки кортежа и черная лепешка лимузина уже превратились в елочную игрушку на горизонте, и милиционер из редкого оцепления вдоль дороги вежливо обратился к нему (он видел, из какой машины он вышел):
— Пожалуйста, покиньте проезжую часть. Сейчас запустят машины. Вас подвезти куда–нибудь?
Анатолий ошалело помотал головой, вышел на тротуар и побрел прочь, продолжая спрашивать в наступившей медленной тишине: «Кого же ты любила, Лиза? Почему соврала мне о ребенке, и соврала ли? Ведь он любил тебя, и все, что он сказал про отсутствие двусмысленностей в ваших отношениях, было неожиданно плохонько — по сравнению с тем, как искренне он говорил о твоем убийстве. Он любил тебя больше жизни, Лиза, и считал, что ты любишь его так Же, потому и переписал на тебя свои богатства, а ты нашла меня, чтобы любить его еще больше, в живой, овеществленной, молодой и дурашливой форме, а он воспринял эту любовь как измену и приказал тебя уничтожить, вместе с ребенком, который, конечно же, зачат от него. Но сейчас — сейчас, услышав о твоей любви к нему не от тебя, которой можно не поверить, а от меня, — он все понял, оттого и заплакал! Он понял, что убил ту, ради которой жил, убил свою последнюю надежду на человечность. Его рычащее настоящее проникло в человечные мечты о будущем, которым он позволял предаваться, играя для тебя. Он понял, что я — это он, его собственная проекция на молодой материал, меня и не существовало–то толком, ко мне ревновать — все равно что ревновать к собственному отражению, а ведь тебя уже не оживить. И, что самое главное, версию–то эту он уже много раз проговаривал, убеждал себя в ней, все эти месяцы пытался поверить в то, что ревновать — не надо, но все равно отдал приказ. И понять бы еще, почему он так искренне отрицал, что причастен к твоей смерти, неужели до такой степени убедил себя в том, что не «заказывал» тебя? Или это сделали за него рвущиеся вперед подчиненные? Какой–нибудь дурак из охраны, которому однажды он открыл сердце, а тот воспринял как приказ?
Его простодушная версия, Лиза, про пианиста и его слушательницу, не клеится! Она распадается на куски! Ощущение, что содержимое наших бесед перемешали и вылили ему на голову, а он, перепутав все и вся, выдумал что–то, да сам себя в этом убедил, да пытался убедить и меня, не понимая, что я — я! — вел эти беседы, которые для него подслушали.
Наши с тобой мечты о семейной жизни, твое обещание поговорить с ним были уже после той вашей встречи в Соколе, где он играл тебе и жаловался на сына. Он же говорит, что именно там ты просила оставить нас в покое, не трогать нас двоих, причем «не трогать нас двоих“ — это именно твои слова, именно так ты тогда, под торшером, и сказала, но не могла сказать так в разговоре с ним — ты говорила бы что–то вроде «нас с Анатолием“, «нас с ним“, и это — стилистика, которая взяла вас за руку, товарищ Муравьев! И, что самое грустное, — я слишком хорошо знаю тебя, Лиза, моя милая, хрупкая Лиза, моя бесконфликтная, ленивая Лиза, чтобы поверить, что ты действительно заводила с ним такой разговор ради нашего райка.
А впрочем, знаю я тебя достаточно и для того, чтобы понять всю твою непредсказуемость и согласиться с тем, что и то и это, и его версия и моя — все это возможно: ты могла поговорить с ним, добиться для нас гарантий безопасности, а потом мечтать об этом со мной как о чем–то несбыточном, а потом сказать мне, что ребенок — его, чтобы проверить меня, и уехать, если я прогоню тебя, потому что, если я люблю, я приму тебя с чужим ребенком, и тогда ты мне скажешь, что он — мой, и назовем мы его… Экклезиастом, например. Ты могла убедить меня в том, что любишь его — просто из шалости, чтобы свести меня с ума от безответности, но потом — уже на грани — схватить за руку и оттащить от безумия, и обнять, и извиниться, и осыпать поцелуями, ты могла ему говорить то же самое — что любишь меня, — просто чтобы наши с ним чувства к тебе были настоящими. Может так быть, что ты действительно слушала его музыку, и любила меня, и не сказала так нужное мне «нет“ просто оттого, что боялась, что нас слушают его ушами…
В случае с тобой, Лиза, быть могло что угодно. И я даже не знаю, что хуже — поверить в их дурацкую версию, что ты любила меня и это я тебя, помешавшись от ревности к нему, убил, или в то, что ты любила его, а он убил тебя из–за ревности ко мне, не сообразив, что я — его двойник в лабиринтах твоей причудливой души.
Но даже если так, если я — отражение, позволь мне на этих правах отражения, Лиза, поверить в то, что в какой–то момент в твоих «ты“, обращенных ко мне, произошла замена, и, обращаясь через меня к нему, ты вдруг увидела в нем — меня. И поняла, что я, даже являясь его отражением, являюсь — «мной“. И, оставаясь пустым местом, еще одной историей его жизни, которую ты хотела бы прожить с ним рядом, я являюсь самим собой, тем «собой“, которого ты любила. И даже если эта любовь в конечном итоге относилась к нему, пусть она будет любовью и ко мне — в нем».