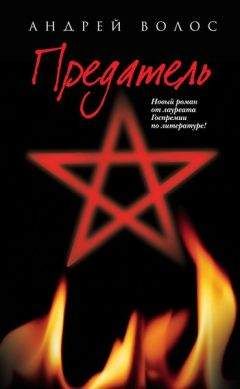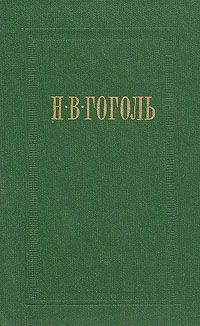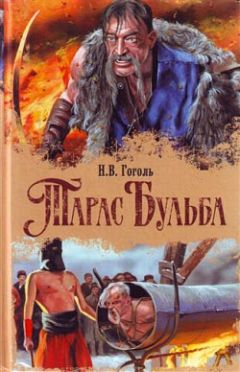Баба Сима вообще говорила немного; главной ее речью (почти неслышной) была поминутно повторяемая молитовка: Господи Исусе, спаси и помилуй! Господи Исусе, спаси и помилуй! Господи Исусе, спаси и помилуй!..
Когда же нужно было высказаться определенней, она или с улыбкой кивала (если обсуждаемое явление или событие представлялось ей более или менее отрадным): «Дело хорошее!»; или, умозаключив обратное, вздыхала:
— Что ж, дело житейское…
И пошутить любила. Правда, остроумие у нее было такого сорта, что поперву только раздосадует; а вот как об него пару раз лбом приложишься, тогда и рассмеешься… И стряпала неординарно: нынче борщом наградит таким огневым, душистым, сладким, сахарным, что голова кружится, завтра щами подарит — в рот не взять, как из грязных тряпок сварены. Вчера противень печеной картошки на сале поставила — смели; сегодня кашей давятся под ее ворчание: мол, кабы знать, что такие привереды, в жизни бы она в эту кашу того же сала не настругала, только добро на вас переводить; и вообще нечего кочевряжиться, не в ресторане; может, она когда и пересолит, да зато у нее хвать-похвать — уж и обед на столе, а Кирка с Артемкой — валуи печеные, оба ни за холодную воду: ни полено подоить, ни корову поколоть!.. Редьку доминайте, а на репку не мыльтесь, бриться не придется: репку завтра будем есть!
Это она ласково, конечно… Кира школу кончала, Артем под стол пешком ходил: его родители — папин брат Викентий с женой Валей — работали в ту пору в Норильске, он у них обретался. Ходил-ходил пешком под стол да где-то там, вероятно, и нашел гвоздик. Баба Сима прикорнула после обеда, Артемка встал у кушетки, примерился и сунул в ухо. Переполох, все кричат, он испугался, заплакал, баба Сима на руки взяла так, чтобы он крови не видел, утешает: «Артемушка, не плачь, у бабы заживет!..» И точно — перепонка заросла, только остаток жизни баба Сима мучилась ушными пробками, приходилось ходить к врачу вытаскивать, а то совсем на одну сторону глохла.
Жизни в целом хватило ей с лихвой. Когда жили все вместе на Волоколамском, Гера не раз и не два подбивал клинья, так и сяк улещивал, добиваясь чего-нибудь связного; но рассказчица из бабы Симы была никакая: все как-то монотонно, будто из газеты; а если ляпнет по неосторожности что-то такое, чего в газете в жизни не прочтешь, так тут же и осечется: что это я плету тебе, Герочка, Господи Исусе, спаси и помилуй!.. Боялась она о себе лишнее рассказывать. Хотя, казалось бы, что могла сказать нового? — ну голод, раскулачивание… война, дочка тифом умерла… на целину ездила, там ее ингуш полюбил, а его убили…
Уж почти десять лет ее на свете не было; бывает, человека смерть выдергивает будто луковицу с грядки — через день уже и места не найдешь, — а Кира все, бывало, спохватывалась: надо же у бабы Симы спросить!..
И часто вспоминала печальные ее слова про неведомую ту Мармалиху.
Потому что когда на шестом году брака она явилась к профессору Гоцкому со своим неприятным вопросом, Самуил Лазаревич только покачал головой.
— Кира, голубушка, ну что же я вам могу сказать? Вы полностью здоровы… не вижу никаких причин. Приходите с мужем, будем разбираться.
Она представила себе, как придет с мужем и они начнут разбираться…
— Понимаете, профессор, — замялась, покусывая губы. — Понимаете, мне кажется, он этого не переживет… точнее, наша с ним жизнь этого не переживет.
Профессор снял с носа очки, ловко протер поочередно стекла внутренней стороной нагрудного кармашка, а затем сказал со вздохом:
— Понимаю.
Надел очки и спросил:
— Вы его любите?
— Очень, — призналась Кира.
Гоцкий побарабанил пальцами, рассеянно блуждая взглядом по разложенным на столе бумагам.
— Шестьдесят, если не семьдесят процентов женского бесплодия не имеют рационального объяснения. Жена здорова. Муж здоров. Детей нет… От другого — пожалуйста. Другая от него — сколько угодно. А вот совместным, так сказать, образом… — Он досадливо щелкнул пальцами: — Полная стерильность!
— Почему?
— Не знаю, голубушка! И никто не знает. Может, и дознаемся когда-нибудь… а пока дело так обстоит.
— И что же мне делать? — тупо спросила она.
— Выкручивайтесь, — сказал тогда профессор. — Как знаете, так и выкручивайтесь. Одно скажу вам, голубушка: действуйте как врач. Хладнокровно и расчетливо. Понимаете меня?
Она кивнула.
Может, профессор и прав был, но кивнула скорее из вежливости, чем из признания правоты. Потому что знала: никогда не сможет на такое решиться.
Как это можно вообще?! Как такое вообразить?! Как потом в глаза смотреть?! Жить как с этим?!
Господи, о чем это она?! Лезет в голову всякая чертовщина! Давно уж надо забыть!..
Артем, Лизка, Юрец… Шегаевы… не забыть бы в салат ту банку крабов, что с ноябрьских осталась.
Лифт остановился. Кира вышла, закрыла громыхнувшую дверь и нажала на звонок.
Будильник затрещал — как с цепи сорвался.
Артем дернулся, рывком протянул руку, ударил наотмашь — и с третьего раза попал наконец по кнопке.
Несколько секунд лежал, переводя дух. Потянулся, скуля, сел на постели, с тоскливой бессмысленностью глядя в белесое от фонарного света окно и безнадежно почесываясь.
Лизка сопела, ткнувшись лицом в подушку.
Некоторое время он прислушивался к собственным ощущениям. Так и не придя к какому-нибудь более или менее определенному заключению, вздохнул и неслышно пробормотал:
— Господи Исусе, спаси и помилуй.
Почесал затылок, поскреб щетину, зевнул, нашарил босыми ступнями тапочки, прошлепал к стене и щелкнул выключателем.
Курево всегда лежало на полу у постели, а теперь пропало. И на замусоренном подоконнике тоже не нашлось. Равно как и на столе — в беспорядке тюбиков, засохших кистей, шпателей, лоскутов линолеума и прочего инвентаря и материала.
Негромко матюкаясь, ощупал все карманы в груде разнокалиберных шмоток, заваливавших два венских стула-ветерана, в силу непоправимой калечности способных стоять только рука об руку.
Снова раздраженно перекидал пустые пачки на подоконнике.
— Лизка! Папиросы где?
Лизка едва слышно вздохнула, поворачиваясь к стене.
— Ладно, спи…
Обследовал пепельницу, но и это не принесло ничего хорошего: все окурки оказались либо страчены в ноль, либо напоследок раздавлены, была у него такая дурацкая привычка.
— Твою же не мать! — тихо сказал Артем.
Вышел на кухню, аккуратно громыхнул чайником, чиркнул спичкой и зажег газ.
Скрадывался он зря, соседки все равно не было — на новогодние праздники и зимние каникулы Алевтина Петровна уехала в Ярославль. Ну да когда в коммуналке живешь, привыкаешь. Хоть и нет никого, а все не один. Так-то у них нормально складывалось: они с Лизкой тихо себя вели, а баба Аля, как ее стала звать Лизка, жила на два дома, почему пребывала в вечном разоре и перемещении, и жизнь ее состояла из непрестанных сборов в поездку к внукам.
Шумно умылся, слегка намочил и причесал короткие волосы. Посмотревшись в зеркало, нахмурился.
Выбрал из грязной посуды, громоздившейся на их столе, граненый стакан, ополоснул. Даже потер пальцами, но чайные кольца все равно остались. Кинул щепотку заварки из рваной пачки, с бряканьем бросил алюминиевую ложку, чтоб не лопнул, и дополна налил кипятком. Сыпанул сахар из бумажного пакета, отломил кусок зачерствелого батона.
Придвинул табуретку, сел. Жевал молча, бездумно глядя на свое отражение в окне.
Одевшись по-уличному, с шапкой в руке, заглянул в комнату.
— Лизка! — сказал он. — Слышь? Ты встанешь, убери тут! Вообще уже как в слоновнике!
Лизка тонко всхлипнула и шевельнулась, глубже зарываясь в одеяло.
Артем перевел взгляд на подрамник, секунду помедлил, успев повторить про себя все, что повторялось по несколько раз на дню — не в больницу бы сейчас тащиться, а за работу встать; и не санитаром бы подвизаться, а сделаться наконец профессионалом (в том смысле, чтобы деньги своими художествами зарабатывать); и не в комнатульке этой ютиться (да еще и не своей), а заиметь бы мастерскую…
И со вздохом погасил свет.
* * *
Перейдя будто вымершее Садовое, потоптался на остановке. Но график движения не сбился: минуты через три показалась празднично украшенная гирляндами поверх лобового стекла «бэшка», со скрипом и судорожными подергиваниями распахнула задние двери.
Безлюдная улица сверкала. Окруженные морозными ореолами фонари сеяли сиреневое сияние на заснеженные обочины и тротуары. В домах кое-где оранжево и желто горели окна — должно быть, там еще допивали, доедали, договаривали. Попадались и елки — одна мерцала гирляндой в окне темной комнаты, другая в освещенной, и Артем, нахохлившийся у заиндевелого окна, обе их проводил взглядом.