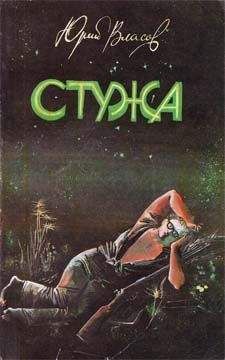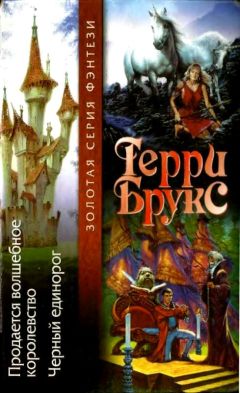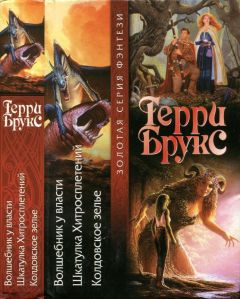Сам ремень с меня отстегнул, подсумки стряхивает, уговаривает не пугаться раны. Я лег на доски, молчу, все выжжено внутри — по голому мясу дыхаю.
— Не пугайся, Миш! — уговаривает Барсук.
Шепчу:
— Эх, не пугай сокола вороной. Прорвемся!
Плечо за грязью не углядишь. Не то рана там, не то ушиб, но кровь из-под грязи плывет, мокнет ватник. А что там, внутри, — не знаю.
— Ункова, Шнитникова, Малыгина еще до атаки, — говорю. — Гришуха до тебя прибег и сказал. Степку Дувакина нашел на ничейке: кончен.
Сам едва языком ворочаю. Такая сонливость! Но Барсуку улыбаюсь: уж так рад.
— Видел, — перебивает меня Барсук. — И Степуху, и как ребят в траншее, и как Гришуху свалили — тоже видел… И как тебя… Бежал ты, Миш, — не догнать. До самой траншеи добег. И гранату точно на бруствер положил. Наделал ты там делов…
Пули мерно долбят в деревянные стойки бойницы. В глазах — темень, искры, черные обручи. Поташнивает.
— …А Степка на нашей мине подорвался, — рассказывает Барсук. — Саперы в проходе не доглядели.
— Дай пить, — прошу.
Во рту сухо, горько. Сонливость — все отдам за сон. И ровно кто землю подо мной плавно покачивает. Я и сблевал.
Барсук матерится:
— Нет воды!
Ватник на мне расстегнул, грязь вытряхивает.
Траншея полуобвалена, в дыму. Раненые в поле воют. Над всем полем воют — громче всех выстрелов и взрывов. Да разве кричат? О боли крик, о помощи и жизни молят… Эх, добивают ребят! Всю школу, все классы, всех дружков — в мясо и кости. Эх, завоют матери по всему Солнечногорскому району!
Барсук не может успокоиться:
— Степку и Петра миной расшибло. Я сзади в десяти шагах бежал, ничего мне…
По выстрелам слышу: пусто по сторонам, нет ребят по линии. Вернулись, кому пофартило, а, считай, всех обошел фарт. Я, выходит, фартовый, да Ефим, ну и еще там кому повезло.
— Как огрызнулись! — говорю о немцах.
— А наши пушки, самолеты, танки?
— Да уж пушки, — говорю, — хотя бы этого добра было. Правду говорил Гришуха: все через пердячий пар и паром доказываем…
За Барсука цепляюсь. Шатко иду, нетвердо. Оступлюсь — и скулю. После каждого поворота узнаем, кого еще нет, кто пропал. Как есть, пустая траншея. Ковыляю, тащу винтовку, уж как боюсь расстаться с ней. Выйти живым — и загреметь в трибунал. Уж не отпущу родимую. Боли особой нет, только ровно кто силу из меня вытряс. Ступить, пошевелить рукой — сразу темнота надвигается. Здоровой рукой держу подшибленную, пособляю: висит, будто не моя. Задача… А ячеек сиротских! Теперь видим: из десяти — девять. Мешки, противогазы, котелки, плащ-палатки, а пацанов нет. А то: или настил, или обшивка в крови или внутренностях. Стало быть, достали… Только башкой верчу: здесь Левашев сидел, здесь — Плохотин, Красноухов, Царев, Пивоваров, Скоробулатов… Тут все, что осталось… если осталось…
Вечный покой вам, ребята!..
Траншея местами стерта снарядами, Настил попорчен, а то и вовсе снесен. Оступаюсь: дно рыхлое — тестом, скользкое. Переполз завал — и дохожу. Плечо — гирей. Барсук мою самозарядку принял. Эх, воды бы, сразу задвигался бы.
Облака солнцем светятся. Летят плавно, осанисто. Грохот по земле, гарь пороховая, а за ними это небо. Раздольное небо, светлое. Нет сил, сижу и смотрю… А в поле ребят добивают!
Боль незаметно набрала силу. Так бы и выдрал из плеча.
Барсук на винтовку лапы положил, моя — за плечом. Сидит, цигарку налаживает. На щетине — грязный пот, кровь ржавыми пятнами, и, похоже, плачет, и тоже без слез. Почти без слез. Ну нажрались нынче, по самую завязку, кони вороные…
— …А Унков? — выспрашивает Лотарев.
— По всей линии прошли, сержанты убиты, — докладывает Барсук. — От взвода, кроме нас, пока четыре бойца в наличии. — Помолчал и добавил: — Больше не вернутся, командир. Вон как бреют.
Лотарев вытирает шею подшлемником. Телогрейка нараспашку. Под ней все темное от воды. Шея бурая, жилистая. Бурчит:
— Не каркай, и без того тошно.
Я притулился у входа в дзот. Кружит слабость. Самому боязно: а как сознание потеряю и не очнусь? Не даю себе задремать. Глазами хлопаю. Вникнуть в слова стараюсь, кони вороные…
— А вы как вернулись? — спрашиваю ротного.
— Как и все — раком! Задницей светил, а видишь, не попали.
— Степке Дувакину ноги оторвало, — говорю. — Гриша Аристархов убит. — И всех перечислять, долгий счет. Барсук свои поправки делает.
— Мишень что надо, — лыбится Барсук на командирский зад.
Мы тоже улыбаемся.
— …Где санитары? — пытает в телефонную трубку ротный. — Отсиживаются, герои!.. Ты мне пришли кого-нибудь, а это не моя забота! Найди! Да нет у меня «карандашей», нет!.. Как где? В поле! И раненые там! — Ротный зажимает трубку и матерится, погодя зло, на крик объясняет в трубку: — Да немцы же всех выбивают на ничейной! Ты что, оглох?! Ну найди санитара, загнется парень!..
А потом, видать, Погожев вызвал. Лотарев торопится, докладывает:
— Участок оголен… Я не паникую, товарищ майор. От роты пока — пятнадцать бойцов. Так точно, ждем контратаку, но вряд ли сунутся, упустили момент… Слушаюсь, не терять бдительности. Оружие собрать? Да его нет, товарищ майор. Что не на нейтральной — переломано, разбито… Раненые? Возможно, по ночи двое-трое и выползут, но сомневаюсь. Они же на выбор бьют… Есть приготовить гранаты и драться до последнего!
Ротный сует трубку в телефонной ящик.
— Ну мудрецы! Ну химики! — И приказывает Барсуку: — Принимай взвод! Садитесь по двое напротив ходов через минное поле. Все наличные гранаты под руку. Быстро пробеги по всем ячейкам, нашарь гранаты. И начеку! Ни шагу назад! Попрут в контратаку — прижать! Выполняй!
Сам подхватывает винтовку — и к бойнице.
Знать не знаю, а не сомневаюсь: снайпер это меня, тот пиздрик, его работа. Все ведь из «шмайссеров» нас охаживают, только он мог из винтовки одиночным — на то и снайпер.
А Барсук ровно угадал.
— Я ему, Миш, фасон испорчу. Не жить, коли не так. Сегодня же к вечеру и срежу. — И похлопывает по пилотке. — Не сомневайся, Миш, достану.
Шепчу:
— На пилоточку его, Миш.
Лотарев поворачивается к нам.
— Выполняй, Барсуков! Не тушуйся! Фронтом не пойдут: мины. А в проходах удержите. Сколько их у вас?
— Два, — говорю.
— Действуй, Барсуков!
Ефим сует мне кисет:
— На память…
И зарысил, хрен сопатый.
«Максим» без щитка, голый ствол. У ручек — Генка Самошников. В глубине дзота, самой темноте — Кукарин: кашлем о себе подает знать.
Лотарев прижался боком к бойнице, рукавом вытирает винтовку. Сам без пилотки. Волосы слиплись, в глине. Высматривает поле. Лоб морщит… «Нет у тебя живой воды, — думаю. — Лежат ребята…»
Навесишко хлипкий, бревна корявые, тонкие, с потолка — душ. Свет в щелях яркий. Как есть, полный день…
Ротный набрасывает на плечи плащ-палатку, бубнит:
— Тут твой дружок всех переполошил. Всем наличным огнем тебя прикрывали, Гудков…
Значит, Барсук постарался.
— Мы их на совесть пошерстили, Миша, — говорит Генка. — Аж «максимка» запарил.
Шучу:
— Так это ты, хрен сопатый, меня заставил рылом пахать…
Ребята смеются.
У телефонного ящика — ракетница, котелки, мешок, лопатки. На полу — горка негодных токаревских самозарядок. Тут же — смятый термос, и ватник в бурой засохшей крови. По бокам ящики. В сортирной нише — трупы. Одни подошвы вижу. Не спрашиваю кто, как пить, из приятелей-дружков, других здесь нет.
Генка оборачивается:
— Значит, живем, Гудков?
— Развинтили мне кости, — жалуюсь.
Самошников лучших голубей в округе водил. Души в них не чает.
— Поберегись, а то заденет сдуру, — говорит Лотарев. — У них мертвое пространство. — И тычит пятерней туда, где ребята.
Успокаиваю его:
— Мертвая свинья не боится кипятка.
А он:
— Садись, куда приказывают! Выдумал же: мертвая… Знаешь еще сколько баб отоваришь!
Я передвигаю зад на соседней ящик, бормочу:
— Слава богу, яйца не отшибли, А так бы неплохо, чтоб сбылось с подругами.
— Сбудется, — обнадеживает Лотарев. — Парень ты корпусно́й, то бишь видный, и, как бы это сказать… Сбудется, Миша, сбудется…
Дзот такой — прибьют раньше, чем на воле. На чем бревна держатся. Уж как верно: корова пестра, да и та без хвоста. Разве ж это дзот?..
Шаги слышу, а охоты поворачиваться и глядеть нет.
— Что, на смену прибыл? — спрашивает Лотарев.
— Так точно, товарищ младший лейтенант.
Да это ж Софроныч! Как есть, с карабинчиком, все такой же чистенький, подобранный, ну жених.
— Принимай роту, Полыгалов, — говорит Лотарев. — Весь счет: пятнадцать бойцов. Раненых много, да где они?.. Сам слышишь — выбивают… A-а, смотреть невмоготу. Пока один Гудков из второго взвода вернулся после ранения. Остальные… да что там! Выбьют дотемна! А кого не выбьют — кровью истекут…