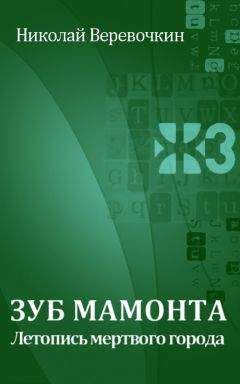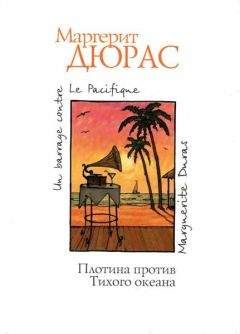— Не трогай его — пусть спит. Меньше шума, — предупредил Енко. — Не люблю я таких мужиков. Ладно бы лишнее, последнее пропивает.
Енко, подобно Богу, всех хотел переделать по своему образу и подобию. Как и большинство недалеких людей, он был уверен в своем совершенстве.
— Садись, — приказал он, подвигая к стойке противно скрипнувший стул. И когда Руслан сел, спросил с бесцеремонной простотой:
— Я чего-то тебя не понимаю. Вроде неглупый парень, а торчишь в этой дыре. От армии косишь? — и не дождавшись ответа: — Мамонты откочевали?
— Да, вот проводил.
— Ну, все — отлетела последняя стая. Теперь до весны — одни старики. Спячка под сугробами. Тоска. Пива выпьешь?
— Выпить-то выпью, да кто мне даст.
— За счет заведения. Грача потом проводишь, а не то в первой луже утонет, шпион хренов. Агент ноль-ноль-ноль.
— Почему шпион?
— Только что заливал: знаешь, говорит, кто Кеннеди хлопнул? Нас, говорит, на звук и цвет учили стрелять. А на запах тебя стрелять не учили?
Грач, не поднимая головы, пробормотал:
— Человек! Ведро водки и два огурца!
С первыми морозами он собирался стать убийцей: колоть длинным ножом свиней, заказанных старушками и бывшими интеллигентами, боящимися крови. Дело было верное, прибыльное. Но беда в том, что никогда прежде Грач не убивал теплокровных животных. Он убеждал себя: ткнуть лезвием в сердце — проще простого, хорохорился, рассказывал о себе ужасные вещи и, набираясь храбрости, много пил.
Тетка подвинула кружку с таким презрением, что Руслану расхотелось пить.
— Так что, — повторил Енко, — от армии в нашей дыре прячешься или как?
— Или как.
— Люблю откровенных людей. Что не пьешь?
— Грача я и без пива отведу.
— Пей. Какие планы? И дальше стариков собираешься хоронить? — и одобрил: — Вечный бизнес.
Руслан скосил глаза в одну сторону, рот в другую и пожал плечами.
— А я при первых заморозках в Полярск покачу, — вздохнул Енко.
Руслан встрепенулся. Только что, шлепая по грязи, он мечтал о крыльях пеликана Петьки.
— В Полярск? — переспросил он.
— Поедешь? Мне как раз надежный напарник нужен. Малопьющий.
— Что делать?
— Ну, не могилы, конечно, рыть. Хотя работа не так чтобы очень престижная. Мясо на нефтепромыслы возить. Говядину. Наших ребят там от оленины воротит. Здесь закупаем, там продаем. Везем своим ходом. Машину водить умеешь?
— Умею. Прав нет.
— Права дело наживное. Купим. Сейчас купить можно все: должность, звание, верную жену, неподкупных друзей, любовь народа. Проблема одна: где взять деньги? Работа не мед. Только я так тебе скажу: хорошая работа та, за которую хорошо платят. Согласен?
Бар в развалинах, да и сами развалины, даже грудастая тетка показались Руслану милее.
— Константин Миронович, закрываться не пора? Клиента-то нет, — сказала сердитая тетка неожиданно певучим голосом, не принимая в расчет Руслана.
— Пора, Фаина, пора. Ударят морозы — мясную лавку откроем.
Руслан растолкал Грача. Тот поднял голову, попытался сфокусировать взгляд и спросил важно:
— Пить будешь? Нет коллектива! Скрипка играет на одной струне. Ты кто?
— Дед Пихто, — представил Руслана Енко.
— Пихто? — задумался Грач. — Не знаю такого.
— Знаешь, не знаешь — выметывайся.
Зависимому от водки безработному, блин, какой прок от того, что живет он в независимом правовом государстве?
Они шли сквозь бурьянный бурелом, мелкий дождь и сквозняки мертвого города, шлепая по лужам и чавкая грязью.
— Слышишь? — спросил Грач, останавливаясь. — Музыка. Шопен.
— Шопен, — разозлился на него Руслан, — идем.
Однако действительно в мертвом городе чуть слышно звучала живая музыка. Где-то играли на фортепьяно. Руслан обошел вокруг Грача, вглядываясь в темень, но ничего не увидел. Музыка смолкла.
— Здравствуй, белая горячка, — икнул Грач. — Бывает.
И они пошли, ориентируясь на собственные представления о пространстве и времени, но точно определить в этой кромешной тьме могли только верх и низ. Впрочем, Грач был свободен и от земного протяжения — самому себе он казался зеленым шариком, надутым едким сигаретным дымом.
Музыка заиграла вновь, и Грача неудержимо потянуло на волнующие душу звуки. Устав с ним бороться, Руслан, придерживая его за ворот, как волкодава за ошейник, позволил тащить себя в неведомое. Но пройдя вброд водное препятствие, они уткнулись в глухую стену. Стена, видимо, была китайской и долго не кончалась. Когда же, наконец, путешествие было завершено, в черном и влажном небе им открылось тускло освещенное окно, из которого щедро лилась божественная мелодия.
— Идем, — решительно сказал Грач и провалился в яму, заполненную водой.
Руслан извлек его из западни, но мокрый Грач продолжал неудержимо стремиться к прекрасному.
— Надо переодеться, — уговаривал его Руслан, — что же мы припремся — мокрые, грязные, без галстуков. Это тебе не пивнушка — искусство. Без галстука нельзя.
— Людям будет приятно, — настаивал Грач, — а галстука у меня все равно нет.
— Возьмем у отца.
— У Бивня тоже нет.
— А вот и есть.
— А вот и нет.
Пока они выясняли, есть ли, нет ли у Козлова галстука, музыка оборвалась, а вскоре погас свет в окне. Мир снова стал черным, непроницаемым, глухим, лишенным ориентиров. И повлек Руслан разочарованного в мире, а более всего в своем поводыре Грача в непроглядываемую точку пространства, где, по его предположениям, должен находиться дом Козлова. Обиженный Грач разговора не поддерживал, на вопросы не отвечал и лишь иногда ворчал с иронией, переходящей в сарказм: «Галстук, галстук… Вот тебе и галстук».
Нет занятия таинственней и тревожней, чем ловля налима холодной осенней ночью. Человек, не знакомый с этим видом рыбалки, совершенно не знает темную сторону жизни. Сидишь в кромешном мраке на охапке соломы, держишь в руках березовое удилище. Ты его не видишь. Лишь чувствуешь тяжесть в руках. На толстой короткой леске — зимняя блесна. На крючке — кусок сала для запаха. Подергиваешь слегка. Трясешься от холода. Невидимая в черноте плотина нависла сырой громадой над невидимой протокой. Все, в том числе и ты, состоит из густой, непроницаемой тьмы и запаха осенней реки. И лишь где-то в полнеба над головой тускло светит сквозь туман фонарь на мосту. Его отсветы змеятся на невидимых волнах. Плотина издает печальные резонирующие звуки пустой общественной бани: влажные всплески, шорохи, журчание, вздохи. Холод и печаль невидимых вод пронизывают тело. Река, небо, плотина, налимы у каменного дна — все сливается в одну темноту, в один космос.
Невидимые, как души утопленников, в предчувствии первого снега сидят рядом Козлов и Руслан. Два мертвеца над рекой мертвых в надежде изловить из вечного мрака черную рыбу удачи.
— «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою», — высморкавшись, мрачно процитировал Козлов.
— Ты веришь в Бога?
Человеку, на глазах которого умер город, построенный его руками, трудно сохранить веру. Но в последнее время у него появилась надежда. Эта надежда сидела рядом, невидимая и вопрошающая.
— Да хотелось бы, чтобы он был, — после долгого молчания ответил Козлов.
— Значит, не веришь?
— Нет, я не атеист. Я человек, огорченный отсутствием Бога. Никогда никому не задавай этот вопрос.
— Почему?
— Неприлично. Есть вещи, которые никого не касаются. Да и все равно ничего не узнаешь. Он есть, и его нет. Для человека, который верит, есть, а не верит — нет. Бог ни к кому в друзья не набивается.
Из влажной темноты послышался вкрадчивый плеск.
— Если Бог есть, то живет он в провинции, — сказал Козлов, прислушиваясь к ночным звукам. — Загубят провинцию — все загубят.
Посередине тьмы вспыхнула золотая копна, просветив до дна речные тайны. Тень остроги черной молнией мелькнула на покрытой трещинами плотине, и полились в ночь богохульные речи раздосадованного промахом браконьера.
В свете «карбидки» увидел Руслан у своих ног порождение тьмы — черного кота. Ночной охотник пристально вглядывался в мелководье, ожидая момента, когда одним прыжком можно будет добыть рыбешку. Глаза прародителя новой породы котов, не боящихся воды, алчно горели.
Лодка скрылась в протоке за островом, и ночь стала еще темнее.
— Батя, вот ты говорил: смотри на жизнь глазами мертвого человека. Как это?
— Просто. Прошло сто лет. Тебя нет. И никого, кто жил в твое время, нет. А то, что ты видишь сейчас, воспоминания о прошлом. Ты все это видишь, а ничего уже нет.
— И что от этого меняется?
— Все. Что казалось важным, оказывается суетой. А какой-нибудь пустяк, на который раньше не обращал внимания, это и есть самое главное. Все меняется. И ты уже другой. Мертвый человек не знает зависти и злобы. Начинаешь жалеть даже тех, кого не любил. «Да не завидует сердце твое грешникам…»