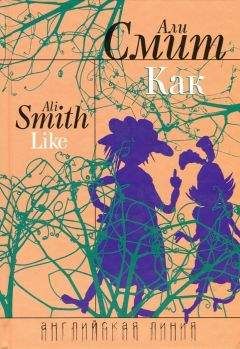Она происходит везде, куда ни поглядишь, на каждой ветке, набухающей листьями.
Наконец-то. Я и Эми на дереве. Мы целовались всю ночь и целовались весь день. Мы занимались любовью. Мы трахались. Мы занимались сексом. Мы ложились в постель и спали вместе, прижимаясь друг к другу — в точности так, как я всегда себе это воображала.
Правда?
Потому что свет, который мы сотворили, всю ночь просачивался в комнату и прогонял тени. Если я открывала глаза, она все еще светилась, мерцая от одного движения нашего дыхания.
Правда ведь?
Неправда. Конечно нет. Все было не так.
Совсем не так, совсем иначе. Один лишь лихорадочный жар, словесная горячка, калесценция. Кальцинация алхимиков, трудившихся в поту, желая превратить в золото то, что золотом не было. Каледонское нагревание. Каледония! Суровая и дикая, как складывались легенды о твоем драгоценном прошлом, как формировались твои горы, когда вскипала холодная земля и плавились холодные скалы, и собирались в складки, и перемещались, и возносили свои еще сырые очертания в воздух. Никак не дойду до нагрева[90].
Нет. Другое изложение событий куда проще, печальнее, позорнее. У меня все холодеет внутри, стоит мне подумать об этом, а лицо начинает гореть.
Ну да, это правда, что я потерялась в холодном городе. Да, я увидела какие-то старые фотографии в газете, да, я психанула, раскрошилась в собственных руках, будто глина. Да, я побежала обратно, мимо попрошаек в дверях магазина, по улицам, расталкивая белых воротничков, выстроившихся в ряд и подзывавших такси у устья подземки, да, я села на металлическую скамью, привинченную к бетону, на станции «Кингз - Кросс», наблюдала за гомиками и за людьми, вынимавшими с помощью пластиковых карточек деньги из банкоматов, да, я протянула вперед руку, и моя рука не дрожала, я сумела прочесть название пункта назначения на железнодорожном билете, а когда прочла, то не могла думать больше ни о чем, только о ней в ее комнате, о воздухе, окружавшем ее. Да, я покинула поезд со вздохом облегчения, прошлась по безопасным старинным улицам, ведущим только к ней, никуда больше, уверенной походкой человека, который точно знает, чтб скрыто за каждым углом, торжественно поднялась по лестнице к ее двери и немного помедлила, чтобы проникнуться торжественностью этого мига, прежде чем моя рука пробарабанит ритм биения крови вдоль костей и т. д. Да, это была судьба, да, это был рок, да, это было все. И да, угадайте, что дальше. Нет.
Никакого ответа, никого. Толчок запертой двери, когда я дернула за ручку. Ладно. Не беда. Подожду. Буду ждать вечно. Но я замерзла, сидя на лестнице, и потому решила, что лучше буду ждать вечно, сидя внутри, ведь как-никак я умела всюду пробраться. Вверх по пожарной лестнице, по крыше, — и можно дожидаться в тепле, когда же она отопрет дверь и обнаружит меня. Вот это сюрприз. Надо же, ты здесь. Где же ты пропадала. Когда я отдирала побеги молодого плюща и поднимала окно, это оказалось труднее, чем в прошлый раз, но у меня получилось, я протиснулась плечами внутрь, вдохнула знакомый воздух и запах.
Я села по-турецки на пол и стала смотреть на дверь. Так прошло примерно полчаса. Потом я встала, походила взад-вперед. В спальню зайти не осмеливалась.
Провела пальцами по письменному столу, пробежалась взглядом вдоль полок. Села за письменный стол, взяла ее ручку, вынула из колпачка, потом опять его надела. Повертела кончик пера на слабом свету. Снаружи кто - то зазвенел ключами, я бросилась через всю комнату на прежнее место, вновь уселась по-турецки на полу, изобразила подобающее выражение лица, приготовилась холодно встретиться с ней глазами. Но звук шагов на лестнице постепенно затих. Потом у меня затекли ноги от неподвижного сидения, и я переместилась на кушетку. Я разглядывала потолочные балки, эти длинные желобчатые плиты из древесины величиной с железнодорожные шпалы. Я потянулась. Поглядела вниз и увидела прямо перед собой ряды дневников, запертых в шкафу. Мысль выходила из ее головы, сбегала к руке, а с пальцев перетекала в тот шкафчик; там, внутри, за стеклом, ее потайные слова сверкали, кружились и прятались, будто косяки крошечных диковинных рыбок.
Я подалась вперед, облокотилась о колени. Встала, прошла в другой конец комнаты. Я только взгляну снаружи. Не буду трогать. Не стану открывать. К тому же наверняка он заперт. Я поравнялась с полкой и заглянула внутрь через стеклянную дверцу. Пересчитала корешки — семь. Постучала по стеклу. Легонько тронула ключ, и дверца распахнулась — так плавно и так внезапно, что я потеряла равновесие и плюхнулась на пятую точку.
Нет, не так. На самом деле мне пришлось изрядно повозиться с ключом, замок оказался очень упрямый. Но я все-таки открыла шкаф, и я их прочитала. Конечно, прочитала — а кто бы поступил иначе? Сначала я вынула одну тетрадь, взвесила ее на ладони. Тяжелая, прохладная на ощупь. Потом я вынесла их на крышу, так, чтобы меня не было ниоткуда видно и чтобы не продувал ветер; я прислонилась к водяному баку, кажется, это был он, и эта большая металлическая штуковина урчала у меня за спиной, пока я читала тетради одну за другой. Начала я с еще не законченной, а потом перескочила на несколько лет назад. К тому времени, когда я добралась до последней тетради, уже стемнело настолько, что я перестала различать буквы. Я дочитывала последние страницы последней тетради, самой ранней, в вестибюле бензозаправочной станции. Мне не хватало денег, но я постаралась очаровать кассира, и он дал мне галлон бензина в пластиковой бутылке, сказав, что я могу зайти и заплатить, когда буду возвращаться домой. Я такая растяпа, улыбнулась я, никогда не гляжу на показания прибора, со мной это вечно случается, а еще мне нужны спички. Смертельное соединение, а? — пошутил он, я рассмеялась, курить вредно, заметил он, что ж тут смешного, а? Ха-ха, ответила я. Глядите, сказал он, передавая мне спички, вы порезались. И правда: мое запястье и кисть руки были исцарапаны, наверное, я ободралась, пробираясь через розовый сад.
В основание пирамиды я положила большие книги с ее письменного стола, словари, учебники. Привалила все это к внутренней стороне двери. Всего Пруста с одной полки, все дневники Вулф в дорогих твердых переплетах — я притащила их с другого конца комнаты, подбросила кое-каких романов — книги, которые, я знала, она особенно любит. «Хиросима, любовь моя»[91], «Фрагменты речи влюбленного»[92], я плеснула на дверь бензин, последние капли стряхнула на гору книг. Когда я закрыла за собой окно, комната и ночь взорвались светом.
Добровольная связь. Это наше наследие. Мы думаем, что имеем право не отличаться от остальных. Иногда очень трудно думать о том, как же все-таки отличаться. Я сделала первое, что пришло мне в голову. Убегая, я услышала, как разбились покоробившиеся окна, я была так довольна собой, что больно было дышать. Я подожгла ее квартиру, даже не успев подумать, что могу причинить этим вред кому-нибудь — то есть кому-нибудь, кроме Эми. Я шла по дороге, удаляясь от этого маленького уютного городка, неся под мышкой ее дневники, а позади меня уже мчались пожарные машины, и бензин щипал мне руки.
Я узнала, что ее почерк делается трогательно детским по мере того, как годы прокручиваются вспять.
Я узнала, что она красиво пишет.
Я узнала множество тривиальных фактов, сотни незапоминающихся подробностей, мельчайшую рябь на ее поверхности. Мне встречались имена людей, о которых я никогда не слышала, и кое-какие знакомые имена, и я следила за каждой искрой ее внимания к ним.
Кроме того, я узнала кое-что о самой себе, ради чего, собственного, и читала ее дневники.
Пустое место — ни единого замечания, ни единого слова. Она не упомянула меня ни разу. Меня не было, нигде не было. Она обошла меня молчанием.
Я оглянулась и увидела позади небесное пламя. Это зрелище. Запах ветра. Обугленные страницы. Историческое место сожжения. Это моих рук дело, моих.
Уж это-то попадет в ее дневники, раз больше ничего не попало.
В газетах появится фотография того здания — знакомого, если не считать черной зияющей впадины, проеденной огнем посередине, вроде сэндвича с джемом, какие рисуют в комиксах. Несколько пострадавших. Чудесным образом ни одного погибшего. Непоправимый ущерб. Чрезвычайно разрушительный. Наследие. Четыре столетия. Злоумышленник уничтожил буквально сотни ценных книг, в том числе старинные фолианты с философскими, медицинскими и математическими трактатами, хранившиеся в особом собрании библиотеки. Многие оригинальные издания последних трех веков погибли, когда рухнувшие балки шестнадцатого века из помещений, расположенных выше, прожгли пол, и огонь перекинулся на нижний этаж с книгохранилищем. Сгорели бесценные картины и другие предметы искусства, из которых самым необычным экспонатом был локон волос Шарлотты Бронте, срезанный сразу после ее кончины и сохранившийся до наших дней. Бессчетное множество других ценных вещей погибло в дыму и при тушении пожара. Ни одна группа пока не взяла на себя ответственности. Полиция предупреждает о возможных сходных преступлениях, которые могут совершить подражатели.