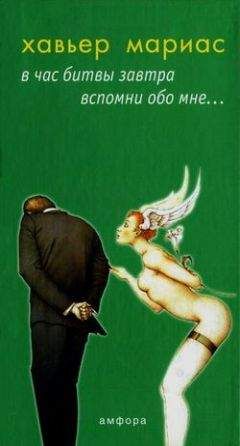– И что вы сделали? Вы ей все рассказали? – Луиса спрашивала только о самом существенном.
– Да, я ей все рассказал, – ответил Ране, – но тебе рассказывать не буду, ни о том, что именно я сделал, ни о деталях. Этого забыть нельзя, и я предпочел бы, чтобы тебе не пришлось об этом вспоминать самой и напоминать мне с этого дня, а именно это и произойдет, если я тебе все расскажу.
– Но как она умерла? Никто не знает истинной причины, ее-то вы мне можете открыть? – сказала Луиса. Мне вдруг стало немного страшно. Она спрашивала только о самом существенном, так же она когда-нибудь будет расспрашивать и меня, если ей придется это делать. Я снова услышал позвякивание кубиков льда – кто-то встряхивал бокал. Ране, должно быть, болезненно думал, а может быть, мозг его уже несколько десятилетий не был болен. Возможно, он приглаживал, почти не касаясь их, свои белоснежные, словно присыпанные тальком, волосы. Возможно, в этот момент он выглядел неуверенным в себе – таким я уже видел его однажды. Тот день казался теперь далеким прошлым.
– Хорошо, я тебе расскажу, – сказал он наконец. – Вильялобос и здесь не ошибся. Он один из немногих оставшихся в живых что-то еще помнит о той истории. Конечно, об этом помнят еще братья Тересы и Хуаны, если они еще живы, как знали и помнили об этом сама Хуана и их мать. Но со своими шуринами (дважды шуринами) я не общаюсь уже очень давно – после смерти Тересы они и слышать не хотели обо мне и даже о Хуане, хотя открыто своего отношения не высказывали. Хуан поэтому их почти не знает. Только их мать приняла меня, думаю, она сделала это только для того, чтобы защитить свою дочь, чтобы присматривать за Хуаной и не бросить ее на произвол судьбы в браке, в опасном браке со мной, – так она, я полагаю, считала. Я ее не могу упрекать, все подозревали, что я ка-ким-то образом причастен к тому, что Тереса покончила с собой, и что я что-то скрываю, но наверняка никто ничего не знал. Так что жизнь не зависит от поступков, зависит не от того, какие поступки человек совершает, а от того, что о них становится известно. С тех пор я жил вполне нормальной и даже приятной жизнью, – можно продолжать жить, что бы ни случилось (не все способны на это): я нажил состояние, вырастил хорошего сына, я любил Хуану, и она была со мной счастлива, я занимался любимым делом, у меня были друзья и хорошие картины, я радовался жизни. Все это было возможно только потому, что никто ни о чем не знал, знала только Тереса. Сделанного уже не исправить, но последующая жизнь зависит не от того, что вы сделали или чего не сделали, а от того, стало ли об этом известно. Осталось ли это тайной. Во что превратилась бы моя жизнь, если бы все стало известно? Наверное, и самой жизни бы тогда не было.
– Какова была официальная версия? Пожар? – настаивала Луиса, не позволяя моему отцу слишком уходить от темы. Я зажег новую сигарету, прикурив от предыдущей. Хотелось пить, хотелось почистить зубы; в своем собственном доме я не мог выйти в ванную – ведь я находился в нем тайно. Во рту у меня было как после наркоза – то ли со сна, то ли после долгой утомительной поездки, то ли потому, что мои челюсти были напряженно сжаты. Я разжал зубы.
– Да, это был пожар, – медленно сказал он. – Мы жили в маленьком двухэтажном особнячке довольно далеко от центра, она часто курила в постели перед сном (я тоже, правду сказать). В тот вечер я ужинал с несколькими предпринимателями из Испании: я должен был развлекать их, проще сказать, устроить для них попойку. Она, должно быть, курила в постели и уснула, может быть, она выпила немного, чтобы заснуть (она часто так делала в последнее время), возможно, в ту ночь она выпила слишком много. От упавшего окурка загорелись простыни. Пламя, вероятно, разгоралось медленно, и она не проснулась или проснулась слишком поздно. Никто не стал выяснять, когда она задохнулась, – в Гаване часто спят при закрытых окнах. Это было уже неважно. Дом не был полностью уничтожен пожаром – соседи вовремя
пришли на помощь. Я вернулся намного позднее, когда меня разыскали и рассказали о случившемся, – я в это время пил с испанцами. Но огонь успел уничтожить нашу спальню и всю одежду: ее одежду, мою, ту, что я ей дарил. Не было ни расследования, ни вскрытия – это был несчастный случай. Она была вся обугленная. Никто ничего не хотел выяснять. Мне это тоже не было нужно. Ее мать, моя теща, была слишком подавлена, чтобы что-нибудь заподозрить. – Сейчас он говорил быстро, словно торопился закончить рассказ или эту часть рассказа. – К тому же они не были влиятельными людьми, – добавил он. – Средний класс, небогатые, вдова и дочь. У меня же были очень хорошие связи, и я мог бы, если бы мне это понадобилось, остановить любое расследование или отвести от себя любое подозрение. Но их не было. Риск был невелик, все получилось. Такова была официальная версия: несчастный случай.
– Несчастный случай, – повторил он. – Мы были женаты только год.
– А как было на самом деле? – спросила Луиса.
– На самом деле она была уже мертва, когда я уходил в тот вечер пить с испанцами, – ответил отец. Голос его снова был слабым, таким слабым, что мне пришлось напрягать слух, чтобы слышать его слова, как если бы дверь была закрыта, но она была приоткрыта, и я подался вперед, к щели, чтобы ничего не пропустить. – Настроение у меня было плохое, а у нее и того хуже, она уже успела выпить, мы уже два месяца не прикасались друг к другу (я не прикасался к ней). Отчуждение возникло, когда я познакомился с Тересой, и еще усилилось после ее отъезда. Жалость моя к жене все уменьшалась, а ненависть росла. («Он ни разу не назвал ее по имени, – подумал я. – Ведь сейчас он уже не хочет оскорбить ее, не может ни злиться на нее, ни бросить давно умершую женщину, которая не существовала ни для кого другого, кроме как для своей матери, – „мамочка, мамочка” – которая не сумела уследить или присмотреть за ней – „неправда, моя теща”»). Я испытывал то безотчетное раздражение, которое возникает, когда перестаешь любить человека, а этот человек продолжает тебя любить, несмотря ни на что, и не хочет сдаваться. Нам всегда хочется, чтобы все кончалось именно тогда, когда оно кончается для нас. Чем больше отдалялся я, тем более навязчивой становилась она, тем больше липла ко мне, тем больше требовала. («Никуда не денешься», – вспомнил я, – «Эй, ты!», «Ты мой!», «Вместе в аду гореть будем» – и, наверное, хватающий жест, когти льва, лапа хищника.) Я был сыт по горло, я больше не мог этого выносить. Я хотел избавиться от этого ярма и вернуться в Испанию, но без нее. («Я тебе больше не верю», «Ты должен вытащить меня отсюда», «Я никогда не была в Испании», «Ты сукин сын!», «Я до тебя доберусь!», «Я тебя убью!».) Ссора не была бурной – так, несколько резких фраз (оскорбление и ответ, оскорбление и ответ), – и она убежала в спальню, бросилась на кровать, не зажигая света, и расплакалась, но дверь не закрыла, чтобы я мог слышать ее, она заплакала для того, чтобы я слышал, как она плачет. Я некоторое время слушал всхлипывания из гостиной, дожидаясь, пока придет время идти на встречу с испанцами, которым я обещал устроить попойку. Потом всхлипывания прекратились, и я услышал, как она напевает («Прелюдия ко сну и признак усталости, – подумал я, – пение, которое можно услышать в спальнях счастливых женщин, еще не бабушек и не вдов, уже не старых дев, пение спокойное и нежное, умиротворенное»), потом все стихло, и, когда подошло время собираться, я пошел в спальню, чтобы переодеться. Она спала. Заснула после ссоры и слез, неважно, были они искренними или нет, – ничто так не утомляет, как страдание. Балкон был открыт, издалека доносились голоса соседей и их детей, собиравшихся ужинать. Я открыл шкаф, сменил рубашку, грязную бросил на стул и еще не успел застегнуть пуговицы на чистой, когда мне в голову пришла эта мысль. Она уже не раз приходила мне в голову, но в тот день я подумал о том конкретном дне, понимаешь? Именно о той самой минуте. Мысль иногда бывает такой отчетливой и настойчивой, что исчезает сама граница между этой мыслью и ее осуществлением. Ты думаешь о возможности чего-то, но внезапно это перестает быть только возможностью, а становится реальностью; то, о чем ты только думал, превращается в действие и его результат, без всякого перехода, без раздумий, без проволочек, когда ты еще не решил, хочешь ли ты сделать это, и тогда поступки совершаются сами собой. («Те самые поступки, – подумал я, – про которые никто до конца не знает, хочет ли их свершения, поступки, которые уже не зависят от слов, когда слова сбываются, – наоборот, они теряют связь с „до" и „после", эти поступки суть единственные и необратимые, в отличие от слов, которые можно взять назад, повторить или уточнить, опровергнуть, исказить или забыть».) – Ране, наверное, смотрел в эту минуту на Луису горящими глазами цвета ликера, а может быть, глаза его были опущены. – На ней было только нижнее белье, платье она сняла и бросила на кровать, словно ей не хватило сил даже повесить его, простыня закрывала ее только до пояса. Она еще выпила, одна в спальне, потом кричала мне что-то, потом плакала и пела, потом заснула. Она была похожа на мертвую или на картину, разница заключалась в том, что на следующее утро она должна была встать и повернуться ко мне лицом, а сейчас она лежала, уткнувшись лицом в подушку. («Она повернет лицо, и больше не будет виден ее красивый затылок, – подумал я. – Может быть, он похож на затылок Ньевес. Она может повернуть лицо, в отличие от юной служанки, что подает яд Софонисбе или прах Артемизии. И только потому, что эта служанка никогда не сможет повернуться, а ее хозяйка никогда не сможет взять чашу и поднести ее к губам, охранник Матеу готов был сжечь их обеих, а заодно и едва различимую голову старухи в глубине картины – огонь, мать, теща, пожар»). И когда она повернет ко мне лицо, я уже не смогу уйти и отправиться на поиски Тересы, о которой она так никогда и не узнала, как не узнала, почему она умерла, не узнала даже, что умирает. Помню, я заметил, что бретелька лифчика резала ей плечо из-за того, что она лежала в неудобной позе, и хотел было расстегнуть лифчик, чтобы бретелька не натерла ей плечо. Но я не сделал этого. Решение пришло мгновенно. Я ничего не обдумывал, даже не попытался представить себе, как все будет происходить, – потому-то я и смог сделать то, что сделал. («Воображение спасает нас от многих бед, – подумал я, – поступки, которые совершаются сами собой, которые уже не зависят от слов, когда слова сбываются, – наоборот, они теряют связь с „до" и „после", эти поступки суть единственные и необратимые, в отличие от слов, которые можно взять назад, повторить или уточнить, опровергнуть, исказить или забыть».) Я убил ее, когда она спала, когда лежала ко мне спиной. («Ране убил Сон, – подумал я, – невинный Сон. Но ведь защищает нас именно грудь другого человека, мы чувствуем себя в безопасности только тогда, когда за нашими плечами стоит кто-то, кого мы, возможно, даже не видим, и прикрывает нашу спину своей грудью, которая почти прикасается к нам, и в конце концов всегда прикасается, и среди ночи, когда нас разбудит страшный сон или мучит бессонница, когда у нас жар или мы вдруг почувствуем себя одинокими и покинутыми в темноте, – нам стоит только повернуться и увидеть напротив лицо того, кто нас защищает, и целовать все, что только можно целовать на лице (нос, глаза и рот, подбородок, лоб, и щеки, и уши – все лицо), а может быть, в полусне этот человек положит руку нам на плечо, чтобы успокоить нас, или удержать, или, может быть, чтобы удержаться самому».) Я не буду рассказывать тебе, как я это сделал, позволь мне этого не рассказывать. («„Убирайся!", – подумал я, – „Я до тебя доберусь!" и „Я тебя убью!" – моему отцу приходит в голову мысль, и он тут же осуществляет ее, но, может быть, нужно остановиться на минутку и подумать, все ли ножи в доме режут как положено и хорошо наточены? Посмотри на врезавшуюся в плечо бретельку лифчика, а потом подними глаза и вспомни о лезвиях, которые на этот раз рассекают не воздух и не грудь, а спину. На самом деле все только вопрос места и времени. А может быть, его большая рука ложится на красивый затылок и нажимает на него, и под подушкой действительно нет никакого лица, – оно на подушке, и уже никогда оно не повернется к тебе. Ноги бьют по кровати, ступни, наверное, тщательно вымыты, потому что в собственном доме, если мы женаты или замужем, всегда рядом или в любой момент может прийти тот, кто захочет видеть их или ласкать их, тот, кого она так ждала. Ее руки, вероятно, дергаются, и, когда они поднимаются, видны подмышки, только недавно выбритые для мужа, который уже давно не прикасается к ней. Не нужно беспокоиться, что какая-нибудь складка на юбке испортит вид, потому что она умирает и потому что юбки на ней нет, – она лежит на стуле, куда мой отец бросил и свою грязную рубашку; сейчас на нем чистая рубашка, пуговицы на ней еще не застегнуты. Они сгорят вместе – грязная рубашка и выглаженная юбка, а вместе с ними – Глория, или Мириам, или, может быть, Ньевес, или Берта, или Луиса.