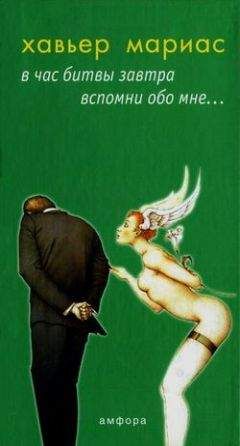– Пора подумать об ужине, если вы голодны.
Прерывистое дыхание Ранса стихло, и я услышал, как он ответил (и в голосе его мне послышалось облегчение):
– Я не уверен, что хочу есть. Давай пройдемся пешком до «Алькальде» и, если захотим, зайдем туда, а если нет – я провожу тебя и разойдемся по домам. Надеюсь, что этой ночью мы сможем заснуть.
Я услышал, как они поднимались с мест, как Луиса убирала что-то со стола, – одного из тех немногих предметов, что мы с ней покупали вместе. Я слышал, как она прошла на кухню и вернулась, и подумал: «Сейчас ей придется зайти в спальню, чтобы переодеться или взять что-ни-будь. Я хочу увидеть ее. Когда они уйдут, я смогу почистить зубы и выпить воды. Может быть, там еще осталось несколько маслин».
Отец (он наверняка уже надел, вернее набросил на плечи, свой плащ и стоял в дверях) спросил:
– Ты уже готова?
– Минуту, – ответила Луиса, – я только возьму платок. – Я услышал, как стучат, приближаясь, ее каблуки, я хорошо знал ее шаги, стук ее каблучков по паркету был не такой резкий, как звук шагов «Билла» по мраморному полу или звук шагов Кустардоя в любое время и в любом месте. Она не прихрамывала, даже когда была босиком. Ей не было бы тяжело подниматься по лесенке, если бы пришлось искать на верхних полках стержни для ручки. Ее каблучкам никогда не пришлось бы впиваться в асфальт, подобно навахам. Я увидел, как ее рука легла на ручку двери. Сейчас она войдет, и я увижу ее, я не видел ее уже три недели, уже восемь недель я не видел ее здесь, в нашем доме, в нашей спальне, на нашей подушке. Но перед тем как открыть дверь, она сказала Рансу, который был у входной двери: – Завтра приезжает Хуан. Вы хотите, чтобы я все ему рассказала или чтобы ничего не рассказывала?
Ране ответил сразу, выговорил медленно и с трудом:
– Я был бы тебе очень благодарен, – сказал он, – я был бы тебе очень благодарен, если бы ты не заставляла меня думать об этом. Я не знаю что лучше. Решай сама.
– Хорошо, – сказала Луиса и открыла дверь. Потом закрыла дверь за собой и только тогда зажгла свет (должно быть, она сразу заметила, как тут накурено). Она взглянула на меня искоса, улыбнулась мне краешком губ, открыла шкаф, взяла платок от «Гермеса» – платок с нарисованными на нем зверюшками, когда-то давно я привез ей его из одной из своих поездок, мы тогда еще не были женаты. От нее хорошо пахло, духи были новые, не «Труссарди», которые подарил я. Лицо у нее было сонное, словно у нее болели глаза, она была очень красивая. Она повязала платок на шею и сказала:
– Такие вот дела.
И я понял, что это та самая фраза, которую я услышал от Берты, когда она, в халате, стояла за моей спиной и я видел ее отражение на темном стекле экрана после того, как закончился видеофильм, который она просмотрела уже не раз, и который ей еще не раз предстояло посмотреть, может быть, она и до сих пор его еще иногда смотрит. Наверное, именно поэтому и я ответил то же, что и тогда. Я встал с кровати, положил руку Луисе на плечо и сказал:
– Такие дела.
* * *
Сейчас мои тревоги улеглись, и у меня уже нет таких мрачных предчувствий, и, хотя я пока еще не могу думать об абстрактном будущем так же, как думал раньше, я все-таки понемногу начинаю лениво размышлять о нем, рисовать в воображении все то, что может случиться или должно случиться, задавать себе без особой нужды и без особого даже интереса вопрос: что будет с нами завтра, или через пять, или через сорок лет? Я знаю: то, что было или будет между мной и Луисой, еще очень долго останется мне неизвестно, возможно даже, что узнать это суждено вовсе не мне, а моим потомкам, если они будут, или какому-нибудь чужому человеку, который, возможно, еще не появился в этом вожделенном мире, – рождение зависит от движения, от жеста, от фразы, произнесенной где-то на другом конце света. Можно спрашивать, можно молчать. Можно молчать, как Хуана Агилера, можно спрашивать и принуждать, как ее сестра Тереса, можно не делать ни того, ни другого, как та первая женщина, которую я окрестил Глорией и которой, возможно, вообще не существовало, – она существовала только для своей матери-свахи, которая, должно быть, уже умерла от горя там, на Кубе, – вдова, лишившаяся дочери, которую проглотил змей; в языках, которые я знаю, нет антонима к слову «сирота». А скоро она и совсем перестанет существовать: когда отца не станет, а мы с Луисой будем в состоянии помнить только то, что случилось с нами и что сделали мы, а не то, что нам рассказывали, или то, что случилось с другими, или то, что сделали другие (когда наши сердца уже не будут такими белыми). Порой мне кажется, что все происходящее вокруг – только видимость происходящего, потому что ни одно событие не является цельным, ничто не длится, не сохраняется и не вспоминается непрерывно, и все жизни, даже самые монотонные и скучные, уничтожают сами себя непрерывным повторением одного и того же, пока все и вся не перестают быть такими, какими были, а колесо жизни приводится в движение теми, у кого нет памяти, кто слышит, видит и знает то, что не говорится, не происходит, что непознаваемо и недоказуемо. Иногда мне кажется, что то, что происходит, идентично тому, что не происходит, то, что мы отвергаем, равнозначно тому, что мы принимаем и чего мы добиваемся, то, что мы испытываем, равнозначно тому, чего мы не испытываем, и, тем не менее, жизнь идет, и мы все время к чему-то стремимся, что-то выбираем, от чего-то отказываемся, пытаемся найти различия между равнозначными действиями и создать свою неповторимую историю, которую мы сможем запомнить и рассказать.
Мы пускаем в ход весь свой ум, все силы и чувства, чтобы справиться с этой невыполнимой задачей, и потому наша жизнь полна разочарований, упущенных возможностей и использованных возможностей, подтверждений и доказательств, а на самом-то деле верно только то, что ничто не подтверждается и все проходит бесследно, если вообще когда-нибудь что-нибудь происходит.
Правда только в том, что ни для чего нет срока давности, все лишь ждет своего часа, чтобы вернуться, как сказала Луиса.
Сейчас я подыскиваю новую работу, так же, как и она, – похоже, нам обоим надоели восьминедельные (и более короткие тоже) поездки, от которых очень устаешь и которые отдаляют нас друг от друга. Особых проблем не будет: я владею четырьмя языками, а сейчас еще учу каталонский (мне предлагают хорошее место, но там придется часто вести телефонные разговоры с Барселоной). Многие думают, что у меня хорошие связи в международных организациях и знакомства среди высокопоставленных чиновников. Не стану их разубеждать, хотя они и ошибаются. Но безвыездно торчать в Мадриде мне тоже не очень хочется: не хочется всегда выходить из дома и возвращаться домой вместе с Луисой, вместо того, чтобы заезжать за ней или встречать ее; делить с ней наши несколько комнат, лифт и подъезд, и общую подушку (это только так говорится, подушек всегда две), которую нам иногда приходится оспаривать друг у друга во сне и с которой мы привыкаем смотреть на мир, как смотрят больные, и наши ноги уже не колеблются, куда им направиться по мокрому асфальту. Полагаю, однако, что, когда мы направляемся в одно и то же место, и шаги наши звучат не в лад, мы думаем друг о друге, по крайней мере, я думаю о ней. Полагаю, что мы не променяем друг друга ни на что в этом вожделенном мире, мы еще не потребовали друг от друга отречься от того, чем каждый из нас был раньше, и за что мы друг друга и полюбили. Пока изменилось только наше гражданское состояние, и это уже не кажется ни страшным, ни странным: сейчас я могу сказать «Мы ходили» или «Мы собираемся купить пианино», или «У нас будет ребенок», или «У нас есть кошка».
Несколько дней назад я говорил с Бертой – она позвонила мне, а если она мне звонит, значит, ей немного грустно или слишком одиноко. Если я все-таки брошу работу переводчика, мы с ней уже не будем так часто видеться, и я буду гораздо дольше копить грустные и смешные истории, которые приберегаю, чтобы рассказать ей. Может быть, нам придется начать переписываться, – мы почти никогда не писали друг другу писем. Я спросил ее о «Билле». Она несколько секунд не могла вспомнить, кто это – все это было для нее уже в прошлом. Он, как она полагала, уехал из Нью-Йорка и еще не вернулся. «Дошло, о ком ты говоришь, – сказала она, – он может появиться со дня на день». Я понял, что она не видела его с того дня, как он на наших глазах сел в такси (я тогда смотрел на него с улицы, а она – из окна). Но она права: он (если это был Гильермо) вполне может появиться снова. Берта продолжает знакомиться по объявлениям, она не сдалась и не опустила руки. Она сказала, что сейчас ее интересуют двое, она пока знает только их псевдонимы. Говоря о них, Берта оживилась, в голосе ее зазвучала нежность, как это бывает у женщин, когда у них появляется надежда, которую подаем им не мы, которая нас не касается. Но, пока мы говорили, я представлял себе, что полумесяц на ее правой щеке – шрам, оставшийся после аварии, – потемнел настолько, что стал казаться синим или даже фиолетовым, так что можно было подумать, что у нее на щеке пятно. Возможно, подумал я, когда-нибудь наступит день, – и она капитулирует и опустит руки, и тогда полумесяц потемнеет навсегда. Берта, «БСА», с вечным темным пятном на щеке.