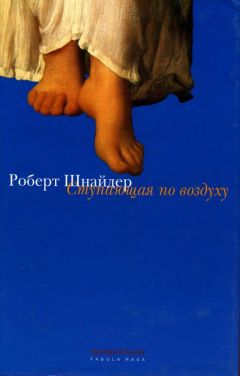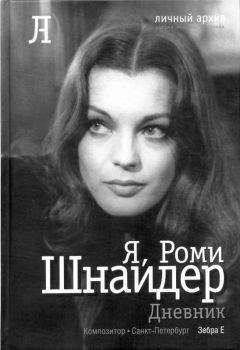Эдвин не явился и на сей раз. Когда молодого актера награждали призами в Берлине и Мюнхене, редакция не получила ни одного билета для прессы. Нигг еще раз переменил суждение, и очередной его отзыв уже невозможно воспроизвести печатным способом.
Оскудение его журналистского таланта, в сущности, началось еще много лет назад. Успех другого человека прорвал гнойник зависти на сердце Нигга. Мечтой этой некогда тонкой, деликатной натуры был гордый исход из узколобого мира Рейнской долины, он жил надеждой стать всеми любимым писателем, самым грозным критическим пером Вены или кинорежиссером типа Дэвида Лина. В двадцать четыре с половиной года он написал сценарий под названием «Иисус среди негров», который, никем не читанный, пылился с тех пор в его квартире. Наконец, когда ему было отказано в вакантном месте фельетониста самой крупной из австрийских газет (редакционному начальству анонимно подбросили нигговские публикации в «Тат», которые можно было счесть расистскими), когда он, страдая от неодолимой тучности, все больше впадал в депрессию, когда вечное одиночество стало уже невыносимо, чаша терпения была переполнена. Баста. Он хотел покончить с собой. Он, теперь уже пятидесятисемилетний Нигг, вышел из редакции, как обычно, в 19–00, добрался до своей квартиры на Симон-штрассе, разделся до нательной футболки, сел за письменный стол, составил тридцать пять прощальных писем (одно было адресовано Эдвину Ноолю), в последний раз прослушал «You’ve got а friend» Кэрол Кинг[34] и все еще не мог заплакать. Он снова оделся, вышел из дома, дотопал до почтового ящика, потом отправился на вокзал, чтобы доехать до Боденского озера. На берегу он принял решение отдать пучине свое бренное тело. Была февральская ночь. И он стоял на берегу, а желтоватый свет гирлянд над набережной почти ласково удерживал его. И когда он смотрел в подернутые жестяным блеском воды, его вновь забрала старая тоска — найти наконец успокоение в тепле женского тела. И тут удалось заплакать. Он обливался слезами, как ребенок. Когда же их запас был исчерпан, он почувствовал вдруг какую-то легкость, даже подъемную силу. Он был почти счастлив. Он снял свои увесистые прямоугольные очки, снял ботинки, стянул носки и бухнулся в ледяную воду. Она показалась ему теплой, как в ванне.
В пути была еще одна оскорбленная душа — приземистая женщина в колоколообразном рабочем халате до пят. Таня Нагг. Из книжного магазина на улице Св. Варфоломея. Та самая дама, у которой Амброс Бауэрмайстер когда-то набрал уйму книг, даже не подумав расплатиться.
Не фантазия сводит людей. Здесь срабатывает неподзаконность жизни. И эта неподвластная законам жизнь намного изощреннее в своих фантазиях, нежели человеческая изобретательность.
Таня Нагг, поседевшая от зависти к жизненным удачам других, прогуливалась по набережной, двигаясь в сторону города. Ей почудилось, что из мягко плещущих прибрежных вод вздымается Колосс Родосский. Она вскрикнула. И этот крик мгновенно остудил теплую ванну. Так показалось Эгмонту Ниггу.
В ту же самую ночь их связали узы любви. Нигг проклинал свои тридцать пять писем, и с утра пораньше уже подкарауливал у почтового ящика курьера. Письма удалось вовремя перехватить.
Словно подростки, они болтали ночи напролет, и, как у подростков, у них пускались вскачь сердца, когда ладони сцеплялись пальцами. Целлюлозно-бледное лицо Тани Нагг за несколько месяцев налилось прямо-таки мальчишеским румянцем, а сутуловатая фигура вдруг приобрела строго вертикальную стать. У нее не было тайн от Эгмонта. Она рассказала ему повесть всей своей жизни. Печальной жизни. Полной упущений, полной нерешительных шагов и желаний. Не ее, чужих желаний — матери, мужа, желаний детей, желаний соседей. Она ведь родом из Граца, а в Граце каждый отец — мучитель своих детей.
Порой создавалось впечатление, что они состязаются в описании перенесенных страданий. В их речах было что-то от милого жеманства первой любви. И притом первой любви пятидесятилетних. Во всяком случае, они были счастливы и уже ни минуты не могли прожить друг без друга. Шествуя под ручку и показываясь на людях, они как нельзя лучше соответствовали клише интеллектуальной четы. Он весь в черном и в массивных очках. Она — вся в черном и в массивных очках. Так как к двухмесячному юбилею их совместной жизни Эгмонт преподнес Тане точную копию своих очков. Такими их видели в городских кафе, где они беседовали о литературе, например, подобным образом:
— А Достоевский, Эгмонт?
— Великолепно!
— Вот именно.
— Надо бы только его подсократить.
— Да!
— На самом деле надо сократить у него все.
— Неужели?
— Прежде всего романы.
— Ах, какая прелесть говорить с тобой о литературе.
— Пора прополоть всю мировую литературу.
— О, как я люблю тебя за твой радикализм! Ну-ка целуй!
— Сперва ты.
— Я просто схожу с ума.
— Ах, малютка! Если бы я мог себя выразить в слове.
— Ты бы разил наповал. Разве не так?
Отныне они были неразлучны, и он просветил ее насчет искусства и литературы. Сама она еще девочкой обладала особым чувством слова, даром слова. И одним из многих ее желаний было желание стать литературным критиком. И вот он исполнил это желание. Он сделал ее своей помощницей в литературных делах. И теперь они вместе работали над заметками, размышлениями и комментариями, посвященными культурной жизни долины, и печатали их за подписью Ниггнагг.
Престарелый издатель Хансмариус Зот сидел в своем стеклянном домике, наслаждаясь круговым обзором ландшафта: от ледяных зубцов Кура и зарейнских далей до немецкого побережья Боденского озера. Когда его нос, напоминавший поваленную башню, пересекся с маяком у берегов Линдау, старика охватила тоска по дальним странствиям. Тоска по смерти. Одному из своих двенадцати сыновей (он называл их «мои двенадцать апостолов») он велел доставить подзорную трубу «Хабихт АТ 80», которую ему когда-то любезно преподнесла фирма «Сваровски» для более широкого охвата плюрализма мнений. Он прильнул к окуляру и уставился было на сверкающего в лучах августовского солнца льва у входа в гавань Линдау. И тут взор его помутился, и он начал проклинать вышеназванную фирму, подсудобившую ему какую-то дешевку с линзами, которые не прослужили и пяти лет. На самом же деле взгляд был затуманен слезой. Львиный монумент навел на мысли о собственной монументальности, и издатель газеты «Тат» и впрямь ощутил себя старым львом, возлежащим в ожидании смертного часа.
В тот августовский день он утратил все достоинства, из которых лепился авторитет издателя такого масштаба. Он потерял интерес к объективности, под которой понимал искусство интриги, вранья, манипулирования, вымогательства и доносительства. Он даже охладел к своим любимым игрушкам — «Тат» и «Варе Тат». На журфиксе в «Галло неро» он излил свою горечь земельному президенту Куно, выражаясь кратко и чеканно, как и подобает издателю газеты.
— Я сыт по горло.
Куно молча ковырялся в худосочном мясе устриц от Отелло Гуэрри, и его взгляд несколько размылся.
— Да, но… Кто же будет управлять долиной? — спросил он, откашливаясь.
— Неужели мне всегда все делать самому! — гремел Зот.
— А твои двенадцать апостолов? Разве не мог бы один из них?..
— Все они недоумки.
— Ну а, скажем, Фрицмариус.
— Он еще в школу ходит.
— Вульфмариус?
— Этот дебил-то?
— Нильсмариус?
— Для меня он умер.
— Эрнстмариус?
— Сутенер? Ты что, спятил, Куно?
— Не надо со мной так! Я же помочь хочу.
Президент продолжал перебирать «апостолов». Когда он дошел до Эдемариуса, старик прикрыл веки. Куно впился пальцами в салфетку, опасаясь нового грозового раската. Но старик не взревел.
— Куно.
— Только, пожалуйста, не кричи. Иначе будешь доедать десерт без меня.
— Позволь, я встану.
— ?..
— Дай я тебя поцелую.
Вот так (это чистая правда, и политика действительно немудреная штука) была решена судьба газет «Тат» и «Варе Тат». Через полгода издатель Хансмариус Зот скончался на восемьдесят восьмом году жизни.
В те дни, когда Эдемариус принял наследство отца, проходили выборы в рейнтальский парламент. Расклад получился — лучше не придумаешь. Самым могущественным представителем края стал весьма молодой человек, некий Бруно, коему Эдемариус — друзьям разрешалось звать его Эдемар — был до сих пор благодарен за то, что тот когда-то вступился за него, пятиклассника, и всей своей мощью отстоял его длинный нос, который пытался откусить один восьмиклассник, только за то, что Эдемар был сыном видной персоны.