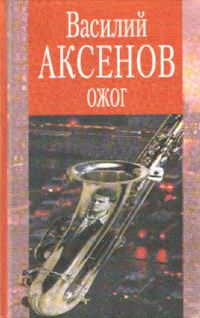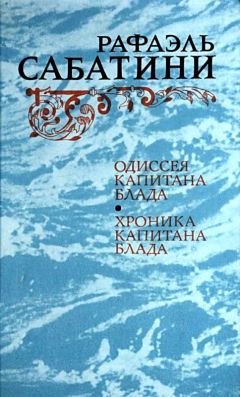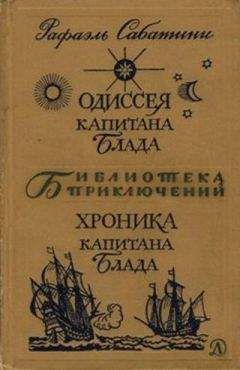– Ничего определенного в этом смысле нет, – мягко уточнила Спецчасть. – Наблюдение дает противоречивые данные. Во время последнего запоя Куницер неоднократно выкрикивал проклятия в адрес, как они нас называют, Софьи Власьевны, но также несколько раз рыдал и требовал свободы для Анджелы Дэвис, осуждал не только, как они выражаются, вторжение в Чехословакию, но и бомбежки во Вьетнаме. Так что картина не совсем ясная, товарищи.
– Да бросьте вы, ребята, – улыбнулась легкомысленная Наука. – Я толковал с Куном по-свойски, и он мне поклялся, что в рот больше не возьмет. Кун глубоко потрясен тем, что с ним случилось. Он говорит, что вся эта пьянка противоречит его личным, моральным и религиозным соображениям.
– Религиозным? – встрепенулся Партком.
– Ну это так, условно, сами понимаете. Главное, он гениальный тип, и его формула дает нам мощный толчок.
– Он действительно в рот больше не возьмет? – сумрачно поинтересовалась Администрация. – Вы понимаете, как это важно, хотя бы до конца эксперимента?
Селектор на столе тихо загудел, замелькал огонек, и голос секретарши произнес со значением:
– Пришел Аристарх Аполлинариевич.
– Кун, где ты там? Входи, старик! – радостно воскликнул Партком и побежал открывать двери.
Куницер вошел бледный, с запавшими щеками, с блуждающим взглядом, пристроился на углу стола, потом глухо сказал:
– Наш бочонок уже сделал три витка. Все идет нормально.
– Где он сейчас, Кун? – мягко спросил научник. Аристарх Аполлинариевич посмотрел на часы.
– Сейчас он над Лондоном, а точнее, над Кенсингтонским парком, через пять минут выйдет к Ирландскому морю.
– Установку еще не включали? – осторожно спросил секретник.
– Вы бы хотели, чтобы мы ее включили над Кенсинггонским парком? – Кун еще больше побелел, уже до синены, и щека задергалась.
– Что вы, что вы, Кун, – улыбнулся секретник. – За кого вы меня принимаете? Там ведь, должно быть, дети гуляют.
ближе к ночи золотоволосая лиса Алиса, на новеньком красненьком «Фольксвагене», рулила через Москву по срочному делу. Автомобильчик этот, шедевр западной ширпотребной технологии, был недавно прислан ей по почте старым другом академика Фокусова, прогрессивным космополитом Норманом Гуттиеро Нормансом.
Многое связывало Фокусова и Норманса, двух прогрессивных седовласых плейбоев: тяжелая многолетняя борьба за мир, встречи в горячих точках планеты, конференции, ужины, коктейли… Недавно связала их еще и Алиса.
Посылка-«Фольксваген» в глубине души возмутила академика: короткая, но бурная дружба Алисы с Нормансом получила огласку в их кругу, и вот теперь, видите ли, «Фольксваген»! Сентиментальный привет или, чем черт не шутит, оговоренный заранее гонорар? Конечно, возмущения своего он не показал, а только лишь отказался платить двухсотпроцентный таможенный налог. Чем все это кончилось, мы уже видим – Алиса рулит на «Фольксвагене» через Москву по срочному делу.
Она немного волновалась, как всякий раз перед новым романом, но что-то было особенное в этом ее нынешнем волнении. В последнее время она вообще потеряла покой, и все ее лихие приключения, звонки, внезапные исчезновения, неожиданные перелеты на юг, все то, что заполняло ее жизнь, теперь было тронуто каким-то подспудным беспокойством.
Недавно в Ялте она спускалась в вагончике канатной дороги с Дарсана из ресторана «Горка». Она была пьяна и весела. С ней вместе в двухместной люльке ехал нахрапистый мужик, кинооператор Галеотти. Он цапал ее руками, говорил на ухо непристойности, она хохотала, но знала, что спать сегодня будет не с ним, а с тем, кто ехал в следующей люльке, невозмутимый, с трубкой в зубах, вроде бы и «не по этому делу». Внезапно она забыла и своего спутника, и невозмутимого, ее вдруг охватило непонятное волнение, странное ощущение, как будто в этот миг что-то, единственное и связанное лично с ней, невидимой птицей пролетело мимо и сейчас безвозвратно исчезает.
Внизу в этот миг проплывала извилистая ялтинская улочка, по которой цепочкой брели десятка полтора людей с лопатами, позади тащился скучающий милиционер.
Сегодня это чувство пролетающего неудержимого мгновения возникало несколько раз, пока она рулила по Москве на свидание с новым мерзавцем. Вначале она услышала на перекрестке у красного светофора несущийся из какого-то подвала дикий голос саксофона. Потом, при трехрядном повороте на улицу Горького, она вдруг заметила, как под фонарями промелькнула какая-то темная змейка, растаяла в блеске окон, а потом снова появилась над крышами и, подхваченная ветром, улетела в высоту, то ли нотный знак, то ли обрывок кардиограммы, то ли просто московский воздушный вьюн, свидетель наших тайн.
Он ждал ее в назначенном месте, высокий смазливый парень, естественно, в блейзере, естественно, с плоским атташе-кейсом в руках. Да на кой мне черт этот подонок, тоскливо подумала она, открывая ему дверь. Отъезжая от тротуара, она успела заметить желтые буквы новостей, катящиеся над крышей «Известий», – «в Ленинграде продолжает работу европейский кон…».
Все улетело, все пролетело, все прокатило мимо нее. Она как будто чувствовала легкие пожатия мимолетной тоски. Теперь они ехали по маленьким темным улицам. Парень, полуобернувшись к ней, курил «Кент» и криво улыбался. Подмигнув ему, она отвернула голову и увидела в каком-то окне голую стену, стеллаж, мраморную скульптуру… все осталось позади.
Они въехали теперь в кромешную тьму, в тупик, в зону законсервированной стройки. Она остановила машину, выключила зажигание и погасила все огни. В тишине она расслышала шелест молнии и протянула руку. Вот хорошо, подумала она, совсем темно, и в руке моей твердый горячий пульсирующий зверек. Можно вообразить, что это совсем не этот подонок, что это кто-нибудь другой. Перед тем как нагнуться, она посмотрела в небо. Ей показалось, что среди неподвижных звезд одна была катящаяся, медленно катящаяся от Сириуса к Андромеде.
под стеклянным куполом, под прозрачным небом того города, куда мечтал когда-нибудь вернуться с друзьями Мандельштам, где в зеркальных окнах по ночам, где в подъездах среди витражей все еще бродят тени «серебряного века», под куполом интуристовской гостиницы по талонам Литфонда проходил обычный «рабочий» обед Европейского сообщества писателей.
Два полномочных секретаря отечески озирали из своего угла жующих европейских литераторов, хлебосольно улыбались, но между собой вели далеко не беззаботный, а может быть, даже нервный разговор: оба отвечали за этот обед, и, случись какая-нибудь накладка, обоих бы не погладили «на этажах». Поэтому и приходилось сейчас секретарям совещаться, сдерживая взаимную ненависть, забывая о курице славы, которую до сих пор два этих живых советских классика не поделили.
– А это кто там тащится меж столов, длинноволосый? Опять ленинградские умники проникли? Кто отвечает за вход?
– Это член нашей делегации, писатель Пантелей.
– Как? Пантелей включен в делегацию? Все-таки я не всегда понимаю…
– Перестаньте! Парень давно взялся за ум, ничего больше не подписывает.
– Не подписывает, зато высказывается, и как! Алкоголик и циник, если не враг.
– Откуда у вас такие сведения?
– Оттуда.
– Понятно, понятно. Между прочим, взгляните – Фен-го сидит один. Идите, поработайте с Фенго, а я Пантелея приглашу за свой столик.
…Маленький щуплый интеллектуал Фенго, нервный до какого-то внутреннего шелеста, впервые увидел воочию тип советского бюрократа. Бюрократ шел к нему, поигрывая узловатой самшитовой тростью в огромной пухлой руке. Фенго, потрясенный и завороженный, следил за приближением человека-горы в необъятном сером костюме. Фенго был потрясен тем, как точно соответствовала приближающаяся персона созданному им в воображении образу советского бюрократа.
Между тем бюрократу как раз хотелось сегодня быть просто писателем, простым рубахой-парнем среди братьев-писателей, товарищей по европейскому континенту, и он очень был бы озадачен, если б узнал, что маленький француз видит в нем типичного советского бюрократа.
В самом деле, перед конгрессом, под бдительным оком европейски воспитанной жены (помощника-друга-соглядатая), очень много было сделано для удаления из внешнего облика бюрократических хрящей, прокладок и затычек и для привнесения в облик простого писательского шика, либерализма и даже игривости – ну, вот вам самшитовая трость с головой Мефистофеля, ну, вот вам галстук-бабочка, как у Алексея Толстого (графа, между прочим), ну, вот нам резеда в петлице, вот вам трубочка, опять же с чертиком – на что только не пойдешь, чтоб обмануть буржуя, даже штаны перешивали, убирали удобную мотню, поджимали грыжу.