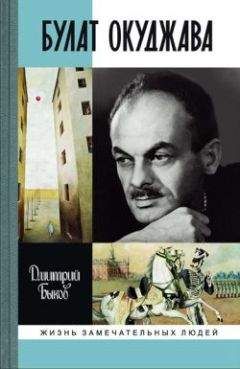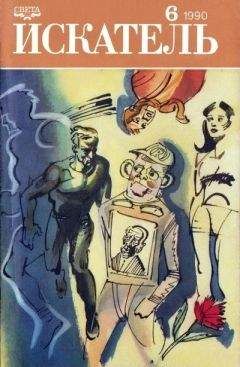Театральным людям лестно думать, что сегодня в столичном обществе — мода на театр. Два новых театральных романа дают надежду на слияние мира сцены и мира изящной словесности, благотворное для обеих сторон.
Андрей Дмитриев угадал: театрально-авангардная Москва сегодня увлекается так называемой «документальной драмой», создаваемой на основе свидетельств очевидцев или, проще сказать, интервью. В параллель с модным веянием писатель пишет роман в некотором смысле тоже документальный, где основная прелесть состоит в эффекте узнавания ситуаций: да, это так и происходит в театре, так только и бывает в закрытом чужому глазу и очень прихотливом организме, где живут странные люди, работающие ни за грош.
Подмосковный театр «Гистрион» под руководством Егора Мовчуна репетирует современную пьесу Тиши Балтина (явившегося из Сан-Франциско) «При ярком свете непогоды». Роль в ней получил шестидесятишестилетний актер Шабашов по кличке Дед, которого зрители должны помнить еще по «комсомольскому кино».
Театрального человека поражает (почти насмерть, до обожания) тонкое и уникальное знание театрального предмета, театральных повадок и заморочек, мелочей и подробностей, густо рассыпанных по тексту, который можно в этом смысле сравнить только с дневником ведения репетиций, имеющимся у каждого помрежа в каждом театре. Театр «Гистрион» похож сразу на все московские труппы 2000-х годов; театральному человеку не может не хотеться разгадать прототипы. Но от начала и до конца это не удается. Хотя поиски, признаться, увлекают…
«Призрак театра» не шутя можно было бы рекомендовать в обязательный список для прочтения абитуриентам, поступающим в театральные вузы. В прагматическом отношении роман этот — еще и красочная поучительная картина буден репертуарного театра с гениальным руководителем, научившимся выживать при любых обстоятельствах.
Достоверность повествования подчеркивает не только эта «физиология театра» и даже не кое-какие современные театральные реалии (Мовчун ставит спектакль «Эта сладкая рябь океана» — «то было попурри из разных текстов Гришковца»; или промелькнувшее воспоминание о давнем раритетном спектакле Эфроса «Буря», или точная ироническая характеристика «Трех сестер» — «хоровода капризных мужиков»), но — главный удар, главная коллизия, которая в романе называется своим именем: «Норд-Ост».
Написанный вскоре после теракта, роман Дмитриева отражает парадоксальную ситуацию: как в другом театре, далеком от печально известного здания на Дубровке, переживают вместе со страной несколько ужасных дней «в ожидании публичной казни сотен неповинных», как чувствуют, что «вытекает с каждым часом из души наша заветная и, как стопарь, спасительная вера в то, что все само собой и как-нибудь рассосется». Драма заложников, запертых в театральном зале, отражается в драме театральных профессионалов, ставших заложниками собственных чувств.
Завтруппой Фимочка, правая рука Мовчуна, якобы отправилась на модный мюзикл с приезжей подругой. И дело даже не в том, что труппа волнуется за бесценного сотрудника, попавшего в водоворот событий. История «Норд-Оста» проявила некоторые факты: Мовчун тайно женат на Серафиме, а актер Шабашов тайно в нее влюблен. Это тихая, мечтательная, не требующая взаимности любовь старика к занятой энергичной женщине.
Сутки ожидания — испытание для двух мужчин, вдруг узнавших, что они соперники, и не особенно удивившихся этому. Шабашова «тянуло к Мовчуну, поскольку Мовчуна любила Серафима, и потому ему никто сейчас на свете не был ближе, чем Мовчун». Они вместе переживают событие просто и достойно, как мужчины, занимающиеся настоящим театральным делом и не поддающиеся ложно-театральной экзальтации.
На следующий день решили не отменять «Двенадцатую ночь», и в «Гистрионе» впервые за годы существования театра был аншлаг — люди предпочли перед лицом беды собраться на шекспировской комедии, как в храме в дни тревоги и печали. И тут чей-то глаз заметил в зале сидящую и ни о чем не подозревающую Фимочку… (Дмитриев до поры щадит сердца Мовчуна и Шабашова: только читатель знает, что Фимочка предпочла «Норд-Осту» сладкую встречу с любовником). Все обошлось, и шагающий после спектакля домой Шабашов кротко умирает от любви, переполненный чувствами, слишком сильными в его возрасте.
Метатеатральная история о силе чувств призвана показать, что существует спасительная мужская стойкость, что после сгустка переживаний обязательно приходит чувство покоя, легкости и мудрости, что мы, зрители Театра, выдержим все, что ни подкинет нам горестная судьба, и что если изречение «мир — театр, и люди в нем — актеры» верно, то найдутся в нем режиссеры, способные крепкой рукой обустроить неуютное пространство жизни. Андрей Дмитриев написал крепкий, бодрый роман о пробуждении силы жизни, о механизме сопротивляемости, об особом театральном мышлении как способе выживать.
В годовщину трагедии «Норд-Оста» на канале РТР был показан очень неплохой телефильм по мотивам романа Дмитриева, где роли Мовчуна и Шабашова блистательно сыграли Сергей Маковецкий и Игорь Кваша.
В финале романа Дмитриева Егор Мовчун вслух размышляет о планах на будущее: «Какой-то бодрый Полторак звонил на той неделе: с пьесой про Сталина; мне в СТД шептали: прогрессивный, и деньги есть на постановку». Тут, конечно, дмитриевское знание театра дало осечку: в нынешнем СТД уже никому ничего не советуют, а если что и шепчут, то совсем по другому поводу… Но дело не в этом. В романе Леонида Зорина, вышедшем за два месяца до окончания работы над романом Дмитриева, актер-мастодонт Донат Ворохов репетирует главную роль в пьесе Клавдия Полторака «Юпитер» в режиссуре Глеба Пермского.
С нового, 2003 года в Москве распространились слухи: Леонид Зорин написал «апологию Сталина». Одних это шокировало, других восхищала смелость опытного литератора, третьи не верили, четвертые сомневались. Мы же прочли…
Апологией Сталина это впрямую не назовешь — ну хотя бы потому, что защищает Сталина, вживаясь в его нетленный образ, актер, которому суждено впасть к финалу в неблаженное безумие и выйти за рамки профессии, сменив собственные монологи на монологи своего героя. Самый финал романа заимствует предполагаемую концовку горьковского эпоса о Климе Самгине. Героя растаптывает прокоммунистическая реваншистская демонстрация, с которой тот всеми силами не хочет сливаться, опешив от извращения своих идей…
Сюжет зоринского романа вышел не таким ясно очерченным, как у Дмитриева. Отчасти поэтому очень трудно сказать, солидаризируется ли автор текста с актером, начавшим думать за Сталина. Но, похоже, все-таки солидаризируется: трудно себе представить писателя, никак не сближающегося со своим ведущим героем. С некоторого момента роман распадается на «дневник роли» — монологи Сталина, воображаемые актером, и вяло трепыхающуюся нить сюжета, которую к финалу окончательно забивает идейная мощь Юпитера-Сталина. Здесь вообще все гиперсерьезно: ни улыбки, ни самоиронии, ни подтекстовой двойственности. Очевидно, спустя полвека после своей смерти Юпитеру есть чем оправдаться!
Зорин рисует академический театр, где очень ответственные актеры с чувством собственного достоинства увлеченно и трудоемко работают над образами. «Отдаю в ваши руки пять лет моей жизни», — говорит драматург актеру. Режиссер много думает, многое прикидывает и носится с пьесой Полторака как с писаной торбой, не желая нарушать замысел драматурга. А он заключается в том, что до сих пор в вечном конфликте власти и художника сознательно принижался интеллектуальный уровень властителей. Здесь же Юпитер-Сталин — «титан среди пигмеев», и ему есть что сказать литературному народцу, окружающему его престол.
Нельзя отнять у Зорина его идеализма. Он, в сущности, описывает утопическую ситуацию, которую ему, наверное, очень хотелось бы наблюдать как драматургу, приносящему пьесу в театр. Актер и режиссер маниакально погружаются в чтение текста, процесс создания роли становится частью жизни актера. Зорин изображает актера-графомана, сочиняющего литературные тексты вместо того, чтобы «с легкостью необыкновенной» переживать свою роль. Актер Ворохов так долго готовится к тому, чтобы выйти на сцену с посланием человечеству, что нельзя не вспомнить известную фразу Татьяны Пельтцер: «Ни один спектакль лучше от репетиций не становился».
Герою Доната Ворохова, возможно, очень хотелось бы выглядеть именно таким: бесконечно умным, всезнающим, тонко разбирающимся в литературе. Но в романе Зорина это вороховское желание сделать из Сталина умнейшего человека своего времени превышает, на мой взгляд, разумные мерки.
Сталин здесь — литературный критик. Он блистательно разбирает «Бориса Годунова», цитирует его наизусть и рассуждает о природе власти у Пушкина как опытный пушкинист. Сталин отчетливо понимает, что «Батум», пьеса Булгакова о нем самом, написана халтурно. Ему снятся литературные сны о том, как Мандельштам дает пощечину Алексею Толстому. Он знает все стихи Мандельштама, он ловит на лету все его фиги в кармане, взвешивает его рифмы и образы. Он знает Библию назубок и жалеет, что забыли русские люди Ветхий Завет, не читают, не учатся порядку. Юпитер — это генсек, который печется преимущественно о литераторах, копается в склоках литературного мира и даже выступает в нем арбитром: «Когда Маяковский всадил в себя пулю, я дня через три позвонил Булгакову. И, можно сказать, разрядил обстановку». Тут нельзя не заметить апропо, что у Зорина, у Рассадина в его недавней книге «Самоубийцы», как и у других классических «шестидесятников», вообще преувеличенное представление о значении интеллигенции в обществе.