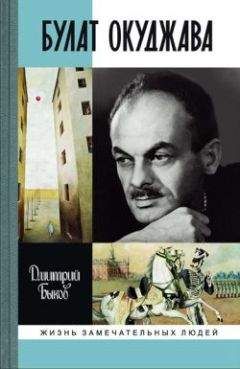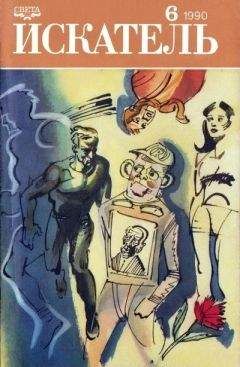Герою Доната Ворохова, возможно, очень хотелось бы выглядеть именно таким: бесконечно умным, всезнающим, тонко разбирающимся в литературе. Но в романе Зорина это вороховское желание сделать из Сталина умнейшего человека своего времени превышает, на мой взгляд, разумные мерки.
Сталин здесь — литературный критик. Он блистательно разбирает «Бориса Годунова», цитирует его наизусть и рассуждает о природе власти у Пушкина как опытный пушкинист. Сталин отчетливо понимает, что «Батум», пьеса Булгакова о нем самом, написана халтурно. Ему снятся литературные сны о том, как Мандельштам дает пощечину Алексею Толстому. Он знает все стихи Мандельштама, он ловит на лету все его фиги в кармане, взвешивает его рифмы и образы. Он знает Библию назубок и жалеет, что забыли русские люди Ветхий Завет, не читают, не учатся порядку. Юпитер — это генсек, который печется преимущественно о литераторах, копается в склоках литературного мира и даже выступает в нем арбитром: «Когда Маяковский всадил в себя пулю, я дня через три позвонил Булгакову. И, можно сказать, разрядил обстановку». Тут нельзя не заметить апропо, что у Зорина, у Рассадина в его недавней книге «Самоубийцы», как и у других классических «шестидесятников», вообще преувеличенное представление о значении интеллигенции в обществе.
Многие возразят: «Позвольте! Так и было! Сталин действительно простирал свою властную руку на литературный мир. Есть факты — в том числе и о его знаменитых телефонных звонках!» Но возражу и я: есть и другие факты, так сказать, контрфакты.
Знаете, о чем не думает и не говорит в романе этот замаранный ходом истории тиран? О терроре и о коллективизации, об уничтожении людей и строительстве лагерей, о стахановском движении и Беломорканале и об Отечественной войне с ее страшным началом…
Видимо, желая объективировать историю, писатель заодно с героем принялся по методу Станиславского в плохом искать хорошее и накопал столько величавого, что жуткое, можно сказать, забывается.
Сегодня, когда общественный интерес к литературе резко упал, наверное, лестно и утешительно думать, что Сталин был отменным читателем и на правах великого человека думал о писательской среде, — это, возможно, даже скрытый укор нынешней власти на всех ее уровнях. Но по мне, пусть лучше никто в правительстве и Госдуме не читает романов и стихов, чем станут читать их по-сталински.
Павел РУДНЕВ.
«Молчит неузнанный цветок…»
Елена Аксельрод. Избранное. СПб., Издательство журнала «Звезда», 2002, 358 стр
С обложки книги глядит красивая молодая еврейка со строгими чертами библейского лица. Это — портрет Елены Аксельрод работы ее отца, Меира Аксельрода.
Интонации первого, заглавного, стихотворения сборника — под стать портрету: тоже строгие, величавые, почти библейские.
Я иудеянка из рода Авраама,
Лицом бела и помыслом чиста.
Я содомитка, я горю от срама,
Я виленских местечек нищета…
В этом же стихотворении сказано: «Судьба моя в глаза глядит обидчиво / Который век, который час, который год». Сказано с некоторым надрывом, дающим повод ожидать, что дальше об этом будет много — о судьбе, об обиде; об обиде на судьбу. К счастью, ожидания не оправдываются.
Хотя поводов для обиды (если, конечно, захотеть обижаться) перечислено немало. Список, так сказать, прилагается: после «виленских местечек нищеты» — «Я та, на чьих лохмотьях звезды желтые / Взойдут однажды и меня сожгут», «Вернуть бы мне себя, еще одну — / Ту, что когда-то не своею волей / Валила в снег таежную сосну» и т. д. (Интонации, ритм и мотив, впрочем, узнаваемы: «Мне кажется сейчас — я иудей, / Вот я бреду по древнему Египту, / А вот я, на кресте распятый, гибну, / И до сих пор на мне — следы гвоздей»: Евгений Евтушенко, «Бабий Яр», 1961.)
Этот горделивый голос (он возносится в книге еще не раз) после произнесения первых стихов вдруг стихает, делает паузу. Кажется — лишь затем, чтоб передохнуть и продолжить восхождение, звеня и нарастая. Но когда он раздается вновь (в первом цикле книги — «Двор на Баррикадной»), то предстает перед нами настолько изменившимся, что узнать его трудно.
Дождь — веревочная лестница,
Мне взобраться бы по ней,
Со ступеньки верхней свеситься,
Чтобы глянуть в пропасть дней.
Различить к земле придавленный
Во дворе московском дом,
В низенький штакетник вправленный
Палисадник под окном.
Разрослись там беспорядочно
Желто-круглые цветы.
Дома тесно, дома празднично,
Дома радости просты.
Речь не то чтобы снижается, но — скажем так — заземляется. Чтоб тут же подняться — невысоко, впрочем: до верхней ступеньки «веревочной лестницы». Как будто нам явили библейскую декорацию (мастерская Караваджо, холст, масло), а сразу после этого показали детский карандашный рисунок.
В строгих четких линиях первых стихотворений узнается многое — и обычность общей судьбы предвоенного поколения (скудость быта, война, эвакуация), и особость частной судьбы. Елена Аксельрод родилась в семье художника (как Пастернак). Отец ее — замечательный живописец Меир Аксельрод, выпускник ВХУТЕМАСа, младший современник Фалька и Петрова-Водкина. (Он, помимо всего прочего, писал — в соавторстве с Иосифом Шпинелем — эскизы фресок для фильма Эйзенштейна «Иван Грозный».) Мама и отец переехали в столицу из черты оседлости. В этой семье родители очень любили друг друга и любили дочь, и, судя по всему, детство Елены Аксельрод — бедное предвоенное детство («ветхий ватин» да «реденькая байка») — было счастливым. Отсвет этого счастья падает на ее стихи. Посвященные отцу, посвященные детству, посвященные первым художественным впечатлениям (благодаря отцу появившимся довольно рано), они насыщены живописными и графическими ассоциациями, в них наравне с родными и друзьями присутствуют любимые художники — Эль Греко, Сезанн, Ван Гог…
Ах, «Красный виноградник»
И голубой Дега!
В каморке нашей праздник,
Хоть в пол-окна снега.
Этот праздник в каморке, однажды широко начавшись в детстве, пребудет с ней и дальше, навсегда — во всех каморках, комнатах и палисадниках ее жизни. Когда она видит розовое небо Крыма — в нем вспыхивают виноградники в Арле. Черно-белый пейзаж Прибалтики в марте отсылает к любимой графике, а в нью-йоркском парке она замечает «перламутровый воздух Коро». Этот праздник способен наполнить любое пространство, даже, например, пространство коммунальной ванны, и любую тему, даже если она далека от радости (вот стихи о том, как соседи по коммуналке приносят домой живую рыбу, чтоб потом ее убить и изжарить):
Из общей виды видавшей ванны
Выпрыгивали живые сазаны —
Шлепая золотистыми брюхами,
Задыхаясь, по узкой прихожей трюхали…
Видно, что сквозь этого сазана пятнисто просвечивает Сезанн.
Рисунок в стихах Елены Аксельрод всегда сделан решительной рукой. «Мне есть в кого счастливой быть. / Дай силы мне, Господь, / И ясность красок перенять, и линий чистоту». Но у «прекрасной ясности» и твердого нажима существует другая сторона — этим стихам порой недостает недосказанности.
Лирика Елены Аксельрод отчетливо сюжетна. В основе многих ее стихов лежит конкретная история, случай. Это стихи как бы на случай — не хочется писать, что они «случайны», но они часто так случаями и остаются, обращенные к конкретным адресатам. Личные обстоятельства и истории — они ведь у каждого из нас свои, не для посторонних. Не то чтоб эти стихи «не поднимаются над обстоятельствами» или «не достигают обобщения» — это не совсем то. Хорошо сказала сама Аксельрод: «В траве мой ремешок, / а я над ним, я над / Несбывшейся судьбой, / незрячестью своей». Вот это «над» иногда удается ей, а иногда нет. Скажем так: многие стихи ее — это «песни зябких муз». И Давид Самойлов как будто про них написал: «Не торопи пережитого, / Утаивай его от глаз. / Для посторонних глухо слово / И утомителен рассказ. / А ежели назреет очень / И сдерживаться тяжело, / Скажи, как будто между прочим / И не с тобой произошло».
Как ни странно, лучшие стихи — те, в которых она признается, что слово произнести невозможно; стихи о несказанном.
Того, что не умолкает,
За немоту попрекает,
Произнести не могу.
И только смотрю, как вороны
Бьют белому снегу поклоны
В молитвенном черном кругу.
В «Избранном» хорошо заметно, что стих ее пленителен, когда он вопросителен, когда ответы как бы раздваиваются и мерцают.
Не знаю, кто там прячется в кусте,
Но куст стрекочет.
Кто новости приносит на хвосте?
Кто лясы точит?
Какие запахи сбивают с ног —
Сирень иль мята?
О чем молчит неузнанный цветок
В траве косматой?
Или вот это: