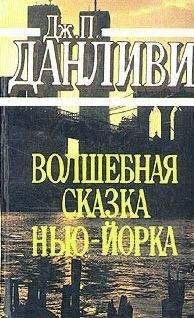Кристиан кивает в знак благодарности. Пот ручейками течет по лощинке меж ягодицами. В окне над головой моего маленького скрюченного доктора тень от этого здания на милю уходит по крышам. На которые, если мне доведется еще раз встретиться с Адмиралом, я заброшу его одним ударом в пузо, обратив таковое в сплошной синяк.
— Эй, погодите минуту. Хотите знать, как стать счастливым. Я вам скажу. Каждый день проходите по шестьдесят кварталов. А чтобы к вам не лезли грабители, притворитесь малость чокнутым. Тридцать кварталов в одну сторону, тридцать в другую. Потом ступайте в закусочную на Шестой авеню. Потребуйте вымоченной в хлебной водке горячей копченой говядины от души обмажьте ее горчицей, да возьмите еще полную тарелку салата из сырых овощей и бутылку пива. И сидите себе, любуясь на задрюченные рожи соотечественников. И радуясь, что у вас не такая.
В лифте полным полно членов союза Дам-Колонисток Америки — соломенные шляпки, производимые в Атланте, штат Джорджия, и корсеты из китового уса. С ними мы летим вниз, к улице, купаясь в аромате духов. Только, господи-боже, кого-то из едущих в лифте угораздило вляпаться в собачье дерьмо. Напрягая мои чревовещательные способности, продавливаю сквозь измученные челюсти несколько слов. Окольным путем подбираясь к деликатному предположению.
— Прошу прощенья, мадам, я случайно встал рядом с вами и все гадаю, дозволено мне ли будет спросить, вы и ваши подруги не принадлежите ли часом к Дочерям Американской Революции.
— Ой, а как вы догадались.
— Догадался, мадам.
— Ты только подумай, Джин, этот молодой человек, догадался, что мы Дочери.
— У меня сломана челюсть, и я право же сожалею, что приходится вот так бормотать, но кто-то из вашего сообщества, я совершенно в этом уверен, наступил на собачьи какашки.
Лицо дамы заливает краска, на шее вспыхивают багровые пятна. Все разговоры в лифте, которому еще предстоит миновать пятьдесят два этажа, смолкают. Повисает мучительное молчание. В последнее время мне как-то не удается должным образом выражать мои мысли. Но и вонищу я выносить больше не в силах. Вся эта сволочь таращится на меня. Пока мы целую вечность падаем вниз так, что закладывает уши. И носы у всех подергиваются, принюхиваются, значит. Демонстративно принюхиваются ко мне, чтоб они околели.
Лифт разгружается и загружается снова. Кристиан протискивается через наполненный трескучими голосами вестибюль. И выходит на улицу, минуя мужчину, продающего четки и галстуки в горошек. Когда тебе плохо, ступай на запад, к докам. Где много больших кораблей, способных унести тебя прочь. Уплывай, точно так, как приплыл. На чудовищном судне до краев нагруженном горем.
Кристиан медлит под вывеской, на которой значится «Таверна». Зайди, выпей стакан пива. Потяни на себя качающуюся дверь и углубись в темноту. Пройди вдоль длинной стойки из красного дерева. Здесь прохладнее, чем на улице. Урчат вентиляторы. Сдувая и унося смрадные запахи лифта. Бармен в белом переднике поверх живота, похожего на плод авокадо, вытирает пивную лужу. Прохожу мимо четырех мужиков, погруженных в истовую беседу.
— Пора бы уж тебе поумнеть.
— А тебе не пора, что ли.
— А я уже поумнел.
— Ну да, умный нашелся.
— Слушайте, умники, засохните оба. Возьмем еще по пиву. И вон тому, который вошел. А то у него вид несчастный.
В знак безмолвной благодарности и в виде приветствия поднимаю стакан. Потому что, если бы и захотел что-то сказать, все равно бы не смог. Войди в этот полностью новый для тебя мир. Наугад выбери место. Заберись на табурет у бара и думай. Работая в похоронной конторе, я ощущал себя живым, а сейчас в каждый закоулок моего мозга, крадучись, пробирается смерть. Ночами весь город лежит без сна и глядит в потолок. Нынче днем еще один чернокожий джентльмен в поезде подземки размахивал елдаком. Перед горсткой заебаных белых хуесосов. Зрелых лет дама с сальным лицом и вязаньем в одной руке вскочила, норовя вцепиться в него. Негр улепетывал по платформе, заталкивая свою драгоценность обратно в штаны. А дама валила следом и голосила, остановись, мне нужно с тобой поговорить. Я же, чтобы немного развеяться, поднялся наверх и пошел прогуляться по парку. На залитой солнцем верхушке одного валуна сидели кружком восьмеро молодцов с накрашенными губами и дружно дрочили. Махали мне ручками, приглашая присоединиться. Один из них, задавая ритм, бил в бубен. И проходивший мимо меня пожилой господин в белых гетрах и хорошем холщовом костюме сказал, добро пожаловать в желтый дом.
С другого конца бара доносится громкий голос. Рослый, коротко остриженный мясистый малый в легкой зеленой майке, скривив рот, обращается к мужчине пониже, одетому в серый костюм.
— Если тут такая духота, как ты говоришь, чего ты тогда сидишь в подобном притоне.
— А ты.
— А я сижу здесь, потому что я умный, вот почему.
— Умный.
— Ага, умный.
— А я застрахован на двадцать тысяч долларов.
— Еще чего-нибудь расскажи.
— А еще у меня брат живет в Манхэссете, так он застрахован на сорок пять тысяч долларов.
— Знаешь что. По-моему, ты просто мешок с говном.
— Тебе что, завидно, что мой брат застрахован на сорок пять тысяч долларов.
— Нет, я тебе завидую. Целый мешок говна.
— А ну повтори.
— Ты просто мешок с говном.
— Нет, ты повтори без улыбки.
— Ты просто мешок с говном.
— Ну ладно, только смотри, больше так не говори.
— Ты просто мешок с говном.
— Предупреждаю тебя, скажешь еще раз, пожалеешь.
— Ты просто мешок с говном.
— Ладно, я подожду, пока ты закончишь, тогда я тебе покажу.
— Покажешь, что ты мешок с говном.
— Это все, что ты можешь сказать.
— Могу еще раз сказать, что ты мешок с говном.
— Некоторые просто не способны понять, что уже наговорили достаточно.
— Правильно. Потому что уж больно много в тебе говна.
— Знаешь что, мне твое общество не нравится. Я, пожалуй, пойду.
Рослый здоровяк протягивает лапу и вздергивает коротышку так, что тот привстает на носки. Держит его за ворот поблескивающей нейлоновой рубашки и подтягивает к себе за галстук, украшенный самыми модными нынче полосками. Двое собутыльников здоровяка немного подаются назад. А бармен быстро находит себе занятие, принимается переставлять на полке бутылки с виски.
— Куда это ты намылился, фертик, ты разве не слышал, я сказал, что ты просто мешок с говном. Хочешь выставить меня вруном перед четырьмя людьми сразу.
— Я ухожу.
— Так прав я или не прав.
— Отпусти меня.
— А вот эту штуку ты видишь, это кулак. Так прав я или не прав. Мешок ты с говном или нет.
— Ладно, во избежание лишних ссор я готов отчасти признать твою правоту.
— Ну, так кто ты такой.
— Не знаю.
— Слушай, фертик, я с тобой не шутки шучу. Он меня вруном выставляет. Ты же только что выставил меня вруном. Скажи, я мешок с говном.
— Я мешок с говном.
— Вот видишь, фертик, самому полегчало. И твой брат тоже мешок с говном. Давай уж, скажи и это.
— И мой брат мешок с говном.
— И не застрахован твой брат на сорок пять тысяч долларов, потому что ни один твой родственник таких денег не стоит, потому что ты, фертик, мешок с говном, так же как твой брат и отец твой, и мать тоже.
— Оставь мою мать в покое.
— Я сказал, и мать тоже.
— Не говори такого о моей матери, оставь ее в покое. Что она тебе сделала. Моя мать хорошая женщина.
— Может, и была до того как тебя, фертика, выродила.
Коротышка поднимает руки ладонями кверху, пытаясь заслониться от надвигающегося ужаса. В прикрытых очками глазах сверкают слезы.
— Ты здоровенная грязная крыса, вот ты кто. Конечно, ты можешь сбить меня с ног. Можешь измолотить меня до смерти. Сволочь здоровая. Ты унизил меня. Это же ужасно, что ты сказал. Будь я покрепче, ты бы не осмелился.
— Еще как бы осмелился, фертик.
— Заставил меня сказать такое о моем брате, об одном из лучших людей, каких я знаю. Подонкам, вроде тебя только и радости, что помыкать людьми послабее. Привязался ко мне, а что я тебе сделал. Чувствуешь себя храбрецом оттого, что я драки боюсь. Ну, ударь меня по лицу, сломай мне челюсть. Я не крепкий. Не сильный. Но я же просил тебя, не говори такого про мою мать. Просил же. А ты все равно сказал. Гадина. Ну, смотри теперь, не отпускай меня. Забей меня в землю и все. Крыса. Ты мне сердце разбил.
— Ты кого это, фертик, крысой тут обзываешь.
— Тебя. Ты и есть крыса. Назвал мою маму мешком с говном, до слез меня довел. Я любил ее. Любил мою маму.
— Слушай, фертик, ты погоди.
— Не погожу.
— Да перестань ты, христа ради, плакать, фертик.
— Не перестану. Ты мне заплатишь за это. Заплатишь. Потому что моя мама была таким чудесным человеком, каких и не было больше никогда. Я на колени вставал, я землю целовал, по которой она ходила.
— Ну ладно, фертик, ну брось. Беру свои слова назад. Фу, черт, да кончай же ты реветь, христа ради. Ну, послушай. Ну я крыса. Вшивая грязная крыса. Да не плачь же ты так, захлебнешься. Давай по-хорошему, по-честному. Я ведь все это в шутку наговорил.