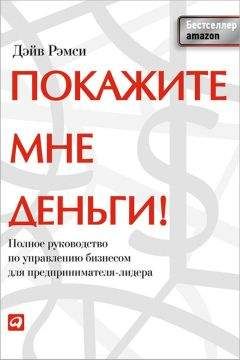– Сможешь заплатить к вечеру? – повернулся к нему Лысая Голова.
– Если бы я действительно брал левые деньги, тогда смог бы, – сказал Азарцев. – А так – извини! У меня денег нет.
– Не хочешь платить – сделаем так, – снова пожевал губами Лысая Голова и посмотрел на часы. – Или к семи часам вечера на этом столе должны лежать деньги, или ты подписываешь документы на дарственную.
– Какую дарственную? – Сердце у Юли забилось сильно-сильно.
– Дарственную на землю и на все строения на ней, включая большой и малый дома… – Лысая Голова еще пожевал.
Юля подумала: «Неужели все заберет себе?»
Лысая Голова закончил фразу:
– …пока подаришь Юлии. А там посмотрим, как пойдут дела. Нотариуса я пришлю. – Он встал и направился к двери. Юля, запнувшись за ковер, с блуждающей улыбкой побежала за ним. Наступила тишина. Только щебетали в холле экзотические птицы.
– Ну, вот и все, – сказал себе Азарцев и запер дверь. Юлия, проводив Лысую Голову, стучала к нему, но он не открыл. Он переписал все свои файлы из компьютера на флешку, собрал книги, атласы, инструменты, попрощался с операционной сестрой Лидией Ивановной и оставшееся до семи часов время провел в буфетной за бесчисленным количеством чашек кофе и рюмок с коньяком. Юлия больше тоже не выходила. Что она делала в своем кабинете, не знал никто. А Юля стояла два часа перед зеркалом, разглядывала себя, улыбалась и думала, что вот, наконец, таким странным образом ее мечта сбылась. Немного она думала и об Азарцеве.
– Он, конечно, Дон-Кихот, но я его не оставлю. – Она не могла сдержать радостную улыбку. – Ну если человек не может правильно руководить большой клиникой, он должен передать свое место другому. А оперировать – да пускай! На здоровье! Никто же не запрещает! Наоборот, даже зарплату положу ему приличную. – Она стала обдумывать, какую бы зарплату дать Азарцеву, но почему-то каждый раз ей казалось, что она хочет предложить ему слишком много. «Ну, ладно, решу это потом!» – сказал она себе и с каким-то упоением стала красить губы новой, только что открытой помадой.
Нотариус действительно приехал к семи часам. Документы были быстро подписаны, печати поставлены, все формальности соблюдены.
– Ты едешь домой? – спросила, когда все было закончено, Юлия. Азарцев посмотрел на нее и ничего не ответил. Юлия, пожав плечами, ушла. Когда они с нотариусом уехали, Азарцев пошел на чердак и стал выносить оттуда клетки с птицами. Охранник хотел было ему помочь, но Азарцев отказался. Он обнимал руками каждую клетку, как будто хотел передать птицам свое тепло. Озадаченные пичуги смотрели на него испуганно.
Расставив клетки в холле, Азарцев всюду включил свет и прошел по палатам, приглашая больных послушать музыку. Спуститься захотела только одна пациентка – актриса, но, увидев, что все остальные заняты своими делами, она тоже раздумала. Ника все это время лежала с закрытыми глазами, щупала свое кольцо и пыталась уговорить себя, что не сделала ничего плохого.
Рояль был закрыт на ключ. Но Азарцев принес из операционного предбанника магнитофон с кассетами и стал перебирать записи. Одна из кассет с надписью «Шуберт, «Аве, Мария» попалась ему на глаза. Исполняла Монтсеррат Кабалье. Он включил запись, сел в кресло, закрыл глаза. И пока великая певица выводила обожаемые всем миром пассажи, он, совершенно не тронутый ее пением, вспоминал, как когда-то в промозглый осенний день маленькая женщина в черном платье со странным коротким именем Тина стояла в этой комнате у рояля и рассеянно брала теплой рукой разрозненные аккорды.
В палатах, услышав звуки музыки, примолкли. У Ники они вызвали странное воспоминание о той больнице, в которой она лежала в реанимации. А у Ани Большаковой, актрисы, выплыл из глубин памяти тот зимний предновогодний день, когда они с Валькой Толмачёвой просили милостыню на Цветном бульваре. Валька тоже тогда пела «Аве, Мария». А деньги, что получила в качестве платы, отдала какой-то незнакомой девчонке. Ника, которая и была той девчонкой, тоже вспомнила странную нищенку – не собиравшую деньги, а отдававшую их. Теперь эти две женщины лежали в одной клинике по соседству, но в разных палатах, поэтому совершенно не узнали друг друга и даже не могли представить себе, что судьба опять так странно свела их в таком удивительном месте.
Монтсеррат замолчала, Азарцев решил, что прощание окончено. Он по-деловому пересадил всех птиц в две небольшие клетки, поставил их в машину и выехал со двора. Охранника он предупредил, что еще в течение трех-четырех дней будет приезжать в клинику только на перевязки. В родительский дом он больше не зашел.
В тот день к вечеру неожиданно пошел снег. Темный асфальт запорошило, на ветках клена, так хорошо видимого из окна Тининой палаты, повисли белые мокрые хлопья.
– Балдеешь по-своему? – раздались одновременно два голоса возле двери. Тина повернула голову – в проеме стояли Аркадий Барашков и его жена Людмила.
– Чего ей не балдеть? – Аркадий размашисто шагнул вперед. – Через пару дней – на выписку.
– А что после выписки будешь делать? – Людмила заглянула Тине в глаза.
– Жить.
– Ну да. Но ведь надо же еще что-то кушать? Неужели опять газеты пойдешь продавать?
Тина задумалась.
– Пожалуй, нет. Ко мне тут приходил наш патологоанатом, Михаил Борисович, Аркадий его знает. Так вот, я ему сказала, что работать пока не хочу. А он мне в ответ: «Захотите! Не может быть, чтоб не захотели». Я не стала с ним спорить, но подумала – никогда не захочу. А вот представьте теперь – захотела. Посмотрела тут на вас с Людой, – она улыбнулась им обоим, – и подумала: не может быть, чтобы от меня не нашлось никакой пользы.
– Да уж как это – от тебя и без пользы! – Людмила стала выгружать яблоки Тине на стол.
– Куда ты столько?
– Ешь, они полезные.
– Но только ты, старушка, имей в виду, в реанимацию тебе возвращаться нельзя, – сказал Аркадий.
– Вот так всегда, – отозвалась Тина. – Как только действительно чего-нибудь захочется, так обязательно окажется, что нельзя – или рано, или поздно, или толстит.
– Месяца три тебе еще точно дома сидеть. А там что-нибудь придумаешь. – Людмила придирчиво осматривала каждое яблоко. И вдруг Тина впервые за все эти дни вспомнила Азарцева. Как он живет? Что делает? Должно быть, снова сошелся со своей Юлией.
– Слушай, – воскликнул Аркадий, – ты возьми у Людмилы телефон гомеопатической школы. Эта работа как раз для тебя. Руками делать ничего не надо. Вон, Людка только сидит себе, с больными разговаривает. Рассматривает их, расспрашивает, что они любят, чего не любят… Даже смешно иногда наблюдать. Горошки им какие-то выписывает! Жуть! А там, в горошках, насколько я знаю, даже и лекарств-то в нормальном смысле нет. До чего мы дошли!
– В нормальном нет, а в гомеопатическом разведении – есть. – Людмила не особенно реагировала на выпады мужа. – Деньги-то, между прочим, я тоже зарабатываю.
– Это ведь она помогла той больной, что в чалме в соседней палате лежала, – вспомнила Тина. – Я в этом почти уверена. – А она к тебе еще приходила?
– Кто? – Людмила теперь мыла яблоки в раковине и тщательно вытирала каждое салфеткой.
– Ну, та больная, которая об стенку головой стучалась и твой телефон спрашивала?
– Не-а! – Людмила искала большую тарелку, куда бы положить яблоки. – Тьфу ты, черт, червивое подсунули. Впрочем, это хорошо. Значит, настоящее.
– А почему? – удивилась Тина. – Ведь она же так тебя разыскивала…
– Да кто ее знает? Многие так делают. Сначала разыскивают, потом исчезают. Ну, может, и лекарство на нее еще действует.
– Видишь! – сказал Тине Аркадий и скорчил страшную рожу. – Ничтоже сумняшеся вылечили больную, над которой бились лучшие умы!
– Чего вам надо-то?! – удивилась Людмила. – Ну, не понимаете в гомеопатии – и молчите. Я в ваши игры не лезу, а вы в мои. На свете столько всего еще, к чему можно и руки, и мозги приложить, что больных на всех хватит.
– Даже мне захотелось гомеопатию изучать, – с серьезным видом сказал Аркадий.
– Ну уж нет! Хватит нам в семье одного гомеопата, а то начнешь у меня больных перебивать. С твоим-то обаянием. – Людмила подошла и шутя потрепала мужа за ухо. Аркадий подмигнул Тине, и было видно, что он доволен.
А Тина подумала, что все-таки хорошо, что тогда сам собой свернулся их с Аркадием производственный роман, что у них с Людмилой хорошая семья, что они сейчас выпьют здесь, в палате, с ней чаю, а потом поедут домой, куда вернется из института их дочка, и все вместе, наверное, сядут ужинать. И вдруг дверь в палату открылась снова.
– Ой, я, оказывается, не вовремя! – раздался в дверях чей-то голос. Все повернули головы и увидели очень пожилую маленькую женщину в брючках, в огромном золотистом парике и с ярко накрашенными губами. Барашков женщину тут же узнал Это была Генриетта Львовна.