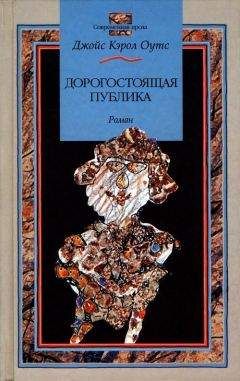В такие мгновения не думаешь ни о чем. Абсолютно ни о чем. И все на тебя наваливается — низко нависшие ветви деревьев, двери, и надо пригибаться или страховаться рукой, хвататься, отталкивать что-то. Предметы надвигаются сами собой, но как-то по одиночке, потому с каждым можно справиться. Я бежал назад вдоль дома через густой кустарник, к тому месту, которое приметил заранее: к длинной полоске кустов, отгораживающей нас от соседей, а может, заслоняющей соседей от нас. Земля была черная, жирная и влажная; газонщики как раз на днях ее удобрили. Здесь на лужайке я погружал ружье стволом в мягкую почву уже на стороне наших соседей, с отчаянной силой запихивая его все глубже и глубже. В конце концов мне пришлось рыть землю пальцами, чтобы засыпать ружье, а после надо было примять и пригладить все вокруг; вот наконец мне удалось скрыть от глаз ружье и, по-прежнему не думая ни о чем, я побежал к дому обратно, кинулся на кухню, слыша, как там звонит телефон.
Это был Густав. Он стал допытываться, что случилось, и я заорал в трубку:
— Убили мою мать!
И отскочив от телефона снова, на сей раз звонившего беспрерывно, я кинулся в цокольный этаж, где грохнул в умывальник отцовские ботинки, смыл с них грязь и снова засунул в коробку. К тому моменту, когда я снова поднялся наверх и когда можно было уже показаться на крыльце, я рыдал навзрыд, как только может плакать одиннадцатилетний ребенок. И с этого момента не было исхода всему тому, что со мной стряслось.
Думаю, мне нет нужды говорить, что, когда я нажал курок, мир вокруг раскололся вдребезги. И я уже не ожил, как бывало раньше. Больше не приливали к сердцу вздымавшиеся вверх потоки крови, не будили его к жизни. Прилив сил оборвался. Все, что жило в глубинных пустотах моего естества, померкло, отгорев до последней искорки, крохотной, как булавочная головка, и медленно-медленно угасло без следа. Сквозь объявший меня туман я различал отдельные лица, отдельные голоса. Прежде всего — Отца, потом вежливых представителей власти, полицейских, хоть и в штатском, медицинских сестер, врача. Должно быть, я был в больнице. Временами меня, свободного и беспомощного, качало течением где-то на дне океана, куда никто из них добраться не мог, а временами я лежал где-то посреди обдуваемой ветрами пустыни, далеко-далеко, к западу от Седар-Гроув.
Что ж, эти мои мемуары посвящены Наде и с ее смертью так или иначе кончаются и они. Поскольку я ничего не умею делать красиво, вас не должно удивлять, что эти воспоминания продлятся еще несколько страниц, а то, что мне страшно умирать, неверно. С чего бы мне бояться смерти? В конце концов, жить мне больше незачем.
Нет смысла ломать голову над последовательностью событий, так как, лежа в больнице, я утратил всякое ощущение временной последовательности. Спрессовавшись, время разлетелось в клочки в моем сознании. Однако вне меня, в реальной жизни, время текло себе обычным путем, и после того как я нажал курок, кто-то, наверное, вызвал полицию, кто-то, наверное, подбежал к ней, ко мне. И из тихих домов в проезде Лабиринт показались дети со служанками поглазеть, как подъезжают знакомые машины, как выпрыгивают из них люди в знакомой форме. В своем полусне я запомнил одного мальчугана лет четырех, бившегося в истерике; негритянке, вышедшей с ним, пришлось подхватить мальчугана на руки и припустить с ним бегом по улице к дому.
Вы заметили, что я воздерживаюсь упоминаний о моей матери. Я больше не хочу смотреть в центр этого круга, я все уже видел через оптический прицел. В тот день последний выпуск вечерней газеты поспешит опубликовать заголовок: «ЖИТЕЛЬНИЦА СЕДАР-ГРОУВ ЗАСТРЕЛЕНА СНАЙПЕРОМ», а также фотографию, — но не Нады, а нашего дома, с припиской, что этот дом в самом центре Седар-Гроув стоит 95 000 долл., только фотография получилась нечеткая, что нашему дому чести не делает. Вычурным знаком «х» помечено место, где она лежала. В последующих выпусках газета публиковала фотографии Нады, называя ее то «красавицей», то «известной всей стране писательницей», то «яркой представительницей местного общества». Но я не хочу больше об этом. Эти газеты вы и сами разыщете.
Да, она мертва. Нет, ее уже не вернуть. Это звучит так просто. Я прожил годы, пытаясь осознать простоту этих слов. Однако позвольте предложить вашему вниманию эти фотографии — просто-напросто стянутые мною у Отца, который через пару месяцев о них и думать забыл. Фотографии эти взяты из комнаты Нады, я никогда прежде их не видел; сейчас они слегка заляпаны пальцами, так как я часто их разглядываю. На первой — Нада, юная невеста: обратите внимание — счастливая улыбка, но глаза неулыбчивые, колючие. Или мне все это только кажется? Волосы старомодно причесаны. И все же эта фотография мне очень нравится. На Наде весенний костюмчик, и она щурится от солнца. Возможно, глядит на Отца, а Отец с заряженным фотоаппаратом, как я с заряженным ружьем, ах, если бы я мог дотянуться до нее, предупредить, сказать ей, чтоб ушла оттуда, чтоб спасалась! Но она вечно будет, щурясь, улыбаться мне, такая же далекая от меня на этом снимке, как всегда была и в жизни.
Вот, взгляните на эту фотографию — это сюрприз! Когда я сам впервые увидел этот снимок, должен признаться, я очень расстроился. На снимке девушка лет шестнадцати, стоит на крыльце — на парадном крыльце дощатого домика. Однако если приглядеться, поймешь: девушка эта — Нада, волосы у нее коротко стриженные, она улыбается слишком широко, а тень от навеса непредусмотрительно заслоняет ей пол-лица. На обороте нетвердой рукой Надиной матери выведено: «Нэнси. Июнь, 1945 г.» Кто это — Нэнси? И кто была мать Нады?
Эти люди, родители Нады, приехали на похороны и после ненадолго остались у нас пожить. Оказалось, ничего подобного, вовсе они не умерли, как я всегда считал, и не было в них ничего необычного. Обыкновенные люди. Отец Нады много лет проработал на резиновой фабрике, но теперь ушел: служил сторожем в школе при церкви. Мать Нады была худая, болезненного вида, плаксивая и полуглухая женщина, и с Надой ее роднил только ястребиного вида нос — и все, больше ничего! И имя у них было не Романовы, а украинское — Романюк, и приехали они в Америку не по каким-то там политическим соображениям, а по совершенно тривиальной причине: то есть не как политические беженцы, а как иммигранты. Отец Нады был никакой не безумец и не гений, просто обыкновенный, совершенно обыкновенный, медлительный и жалковатый тип с некоторым намеком на горб. Все, не более того. Не буду вдаваться в подробности, описывая их приезд. Отец вел себя вполне пристойно, но все же забудем об этом. И Наташа никогда Наташей не была, а звалась Нэнси Романюк, рожденная, крещеная и прошедшая конфирмацию в лоне католической церкви, и значит, несмотря ни на что, в соответствии с католической верой, душа ее считалась спасенной. Католики считают, что в последний момент достаточно произнести краткую покаянную молитву, и миссис Романюк убеждала нас в этом так, будто мы с Отцом эгоистично отзывали душу Нады обратно с надлежащего ей места на небесах.
Эта самая Нэнси, внезапно объявившаяся незнакомая Нэнси, родилась где-то в штате Нью-Йорк, в глухомани, в небольшом городке с нелепым названием Северный Тонаванда. Название, должно быть, индейское. Многие ночи я засыпал, убаюкиваемый этим названием, в котором скрывалось что-то таинственно-прекрасное, хотя и сильно омраченное обволакивавшим небеса дымом труб резиновой фабрики. И все-таки Северный Тонаванда был тот город, где она родилась, где пошла в школу при католической церкви, а миссис Романюк говорила:
— Она всегда была хорошая девочка, не упрямая, хорошая девочка.
Хотя когда она чуть погодя стала рассказывать, как ее хорошая девочка Нэнси сбежала из дома в Нью-Йорк, тон у миссис Романюк был уже совсем иной. Когда Нэнси в конце концов удосужилась написать домой, в письме своем она ничего не объясняла; даже не просила денег, что, разумеется, могло означать самое худшее. Через некоторое время она написала родителям, что собирается замуж, пообещав, что скоро пригласит их к себе в гости, как только они с Элвудом («Имя-то какое, Элвуд!» — брюзгливо произнесла миссис Романюк.) устроятся; но, разумеется, никакого приглашения они так и не получили. Словом, в конечном счете Нэнси оказалась нехорошей девочкой, а когда объявилась в облике Наташи, застреленной неизвестным и так и не пойманным снайпером, не могло ли показаться, что Северный Тонаванда как раз и был тем, что она в жизни заслуживала?
И еще есть снимки… вот: на этом, с обтрепанными краями, Нэнси еще привлекательней, — подбородок агрессивно вздернут, здесь она, определенно в стадии постижения чудес Нью-Йорка, под сенью которого, возможно, и произошло второе рождение и смена веры, — и эта Нэнси стоит рядом с какой-то неизвестной, расплывчато получившейся подружкой, обе в белых летних платьицах, у обеих вид скромноватый. На сей раз на заднем плане мы видим какой-то гараж и несколько худосочных розовых кустиков. Так что фон практически отсутствует. У меня голова идет кругом при мысли о скачке, который совершила Нэнси-Наташа из милого дощатого мирка Северного Тонаванды в милую круговерть газетных заголовков Седар-Гроув. Чудеса! Чудеса! Однако вглядимся в этот снимок, всмотримся в выражение лица этой девушки. 1946 год, ей семнадцать, она закончит среднюю школу и уедет. Всмотримся же в выражение ее лица в ту пору — славное, серьезное, умное личико, губы застенчиво сомкнуты. Как она хороша! Подружка ее улыбается, в улыбке обнажая зубы, а Нэнси — нет. Губы Нэнси сжаты. Меня так и подмывает, так и подмывает кинуться в Северный Тонаванду, отыскать эту ее подружку, расспросить ее, выжать из нее все тайны Нэнси…