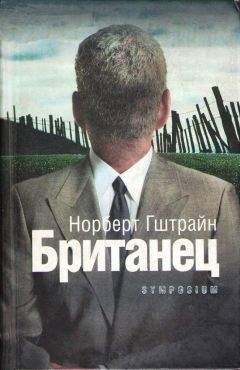Вспомнилось, о чем часто говорил Макс: в Вене, как ни в одном другом городе мира, он, встречаясь с людьми, которые чего-то достигли в жизни, остро ощущал, что высокое положение ими не заслужено, в Вене он не раз задумывался о том, что мелковаты эти люди для занимаемых мест, независимо от того, на правильной они стороне или на неправильной, что они занимают чужие места, и как раз поэтому вечно то надуваются от важности, то вдруг, пренебрегая элементарными приличиями, теснятся друг к дружке, чтобы устоять, не сорваться в пустоту, в зияющие дыры, пресловутый венский шарм — на самом деле смесь наглого самоутверждения и сознания собственной наглости.
Я всегда считала, что Макс, говоря подобные вещи, просто выплескивал неприязнь провинциала к столице, но в тот вечер, вернувшись домой после встречи с Мадлен, я вдруг поняла, что история Хиршфельдера для меня не будет закончена, пока я не поделюсь всем, что узнала, с Максом. В конце концов, он, и не кто другой, рассказал мне о Хиршфельдере, навязал свои представления об этом человеке, вот пусть и получит назад портрет, ставший совершенно неузнаваемым. Я позвонила матери Макса — кстати, на ее адрес я послала ему письмо с острова Мэн — и услышала, что Макс в Вене, а спустя еще несколько минут уже договаривалась с ним о встрече на завтра. Очевидно, мой звонок не был для него неожиданностью, он сразу согласился увидеться, затем настало молчание, словно он мысленно уже готовился к встрече; потом я спросила:
— Ты еще жив?
Он ответил не сразу, и в эти минуты я совсем близко услышала его дыхание, потом разом все стихло, точно он и сам его услышал и затаился.
— Что значит: ты еще жив?
Я повторила те же слова.
— Конечно, жив!
Чиркнула спичка, я поняла — закурил сигарету, слышно было даже, как фильтр отрывается от губ, потом он выдохнул дым; откуда-то издалека слабо доносился уличный шум. Словно удары его сердца, в трубке началось постукивание, Макс, конечно, тут был ни при чем, я стала считать удары и еще не дошла до десяти, как все стихло. С минуту не доносилось даже легкого шороха, и я испугалась, так как поняла — он тоже прислушивается, я вдруг ясно расслышала звуки, раздававшиеся у меня в комнате, но вдруг Макс положил трубку, ни слова больше не сказав.
Мы увиделись впервые за пять лет, прошедших после нашего разрыва. Даже не знаю, чего я, собственно, ждала от Макса. Мы встретились в кафе, в Четвертом районе Вены, где он жил, и сегодня мне вспоминается, что держался он с преувеличенной уверенностью, казалось, ему непременно надо в чем-то убеждать, что-то доказывать, как только речь заходила о его жизни, в общем, я старалась не смотреть ему в глаза, потому что их испуганный взгляд свел все попытки самоутверждения к нулю. Совершенно новым был стиль в одежде — брюки с заутюженной складкой и черная рубашка. О прошлом он не хотел говорить — если всплывало что-то в этом роде, обрывал себя или резко менял тему, вообще предоставил говорить мне, словно боялся допустить какой-нибудь промах, и я почувствовала облегчение, оттого что он так упростил дело и себе и мне. Потом-то он разошелся не на шутку, а до того лишь раз показалось, что он собирается высказывать какие-то сожаления — когда ни с того ни с сего сказал, что нам нельзя было на два года уезжать в Швейцарию. Он тут же выложил, что ему в то время было не лучше, чем в школе-интернате, когда в конце недели отец, который должен был после обеда в субботу забирать его на выходные, опаздывал, все разъезжались по домам, он оставался один и чувствовал себя так, словно вечно будет сидеть взаперти, всю жизнь, до старости. Тут я испугалась, что Макс надолго застрянет на этой теме, но он взял себя в руки и заговорил о другом: спросил, почему я позвонила именно теперь, и мне кажется, вряд ли он ожидал получить другой ответ — так внимательно он выслушал все, что я рассказала о Хиршфельдере, а затем отреагировал в своей обычной манере:
— Можешь написать об этом роман.
Ну что тут скажешь? — я расхохоталась, словно более сумасбродной идеи нельзя выдумать, а ему вообще-то следовало бы знать, что у меня хватает дел поважнее и тратить драгоценное время на подобные вещи я не собираюсь.
— Уж что-что, но писать роман мне бы и в голову не пришло, — сказала я. — И без того предостаточно всевозможных версий, с какой же стати прибавлять к ним еще одну?
В этот момент я не подумала о злополучном «Похвальном слове Хиршфельдеру», но Макс сразу спросил, не на него ли я намекаю. Он явно не поверил, когда я ответила отрицательно и попросила не обижаться.
— Меня и самого от той статьи воротит, но вот если бы кто-то подарил мне сюжет, можно было бы, пожалуй, заняться этой историей, — сказал он. — Не сомневаюсь, в итоге получилась бы совсем другая вещь.
Я удивилась — минуту назад он говорил, что после той статьи не написал ни строчки и занимается всякой литературной поденщиной, каждый год ездит в Грецию, ведет там на каком-то острове семинар для начинающих прозаиков. Как ни старалась, я не видела ни малейшего признака былых амбиций, даже начала сомневаться, на пользу ли Максу подобное самоуничижение, а тут вдруг, стоило поманить, обрадовался, и сразу полились восторга без конца и края. Он вошел в раж и не замечал, что я не спускаю с него глаз, говорил будто сам с собой, во мгновение ока вырулив на привычный старый фарватер:
— Я знаю даже, с чего бы я начал! — Лицо у него словно окаменело.
— «Больших вам творческих успехов в работе над новым романом!» — Уж не помню, кто однажды высказал Максу такое пожелание, но эту фразу он возненавидел и часто с горечью повторял после своей неудачной презентации «Похвального слова» в Вене; сейчас это пожелание напомнило ему о давнишнем пристрастии к монологам, и Макс засмеялся. Я заметила, что у него вдруг изменился голос — опять зазвучал так же, как раньше, когда он заводил свои бесконечные тирады, — монотонно, заунывно, и еще до того, как излияния начались по-настоящему, я уловила в конце фраз характерные интонации, которые позволяют легко перескочить через необходимый вывод, не дав собеседнику вставить слово возражения. Макс, как будто тоже заметив это, слегка сбавил обороты, но я знала: все, поздно, и приготовилась к неизбежной катастрофе.
— Я повел бы рассказ от твоего имени, — говорил он. — Есть, конечно, риск, что какой-нибудь болван опять вообразит, что он умнее всех, и заявит, что у женщин на все свой особый взгляд. Думаю, гораздо лучше будет, если я напишу от своего лица. — Он закашлялся и, толком не отдышавшись, продолжал: — Но мне нужно взять другое имя. Может быть, подошла бы фамилия Ломниц или Оссовский.
Я через силу улыбнулась:
— Зачем же брать чужое имя?
Он ответил не сразу, но уж зато в полный голос, да еще наклонился ко мне через стол так близко, что я разглядела щетину на его щеках:
— Я должен взять чужое имя, чтобы не стало меня! И на сей раз я не позволю запугать себя этой столичной банде! Пусть не надеются — не раскрою карты!
— Макс, это же ни в одни ворота!..
— Я не подставлю другую щеку всем этим собратьям по перу!
Я схватила его за руку:
— Брось-ка, Макс! Забудь о них!
— Не выйдет, я не дам себя уничтожить!
— Забудь о них, Макс, — я снова попыталась его успокоить. — Ради Бога, пиши роман о Хиршфельдере, только забудь!
Потом я ушла, а он остался, и, наверное, это и правда был конец, которого все еще недоставало, сцена, необходимая для расставания; я сказала Максу, что это его сюжет. В общем, подарила историю, а занялся он ею или нет, рассказал ее или решил молчать, — не важно. Факты остаются фактами, и меня это успокоило, но в то же время я почувствовала тревогу, — ведь в обращении с фактами на писателя полагаться нельзя.
Картина Джозефа Мэллорда Уильяма Тернера носит название «Метель. Пароход выходит из гавани и подает сигнал бедствия, попав в мелководье; автор был в эту бурную ночь на „Ариэле“» (1842 г.).
Улица, опоясывающая центральные районы Вены, за ней начинаются рабочие кварталы.
Увеселительный парк в Вене.
Бар-мицва — день тринадцатилетия; с этого дня еврейский мальчик считается взрослым и становится полноправным членом общины, обязанным исполнять все религиозные заповеди.
Аристократическое предместье Вены.
Принятое в те годы на Западе прозвище Сталина.
Массированная бомбардировка (англ.).