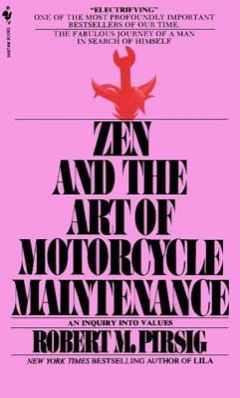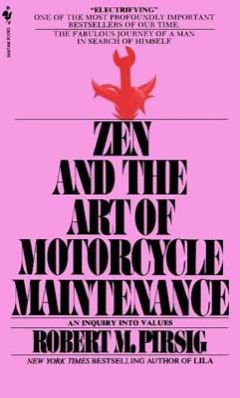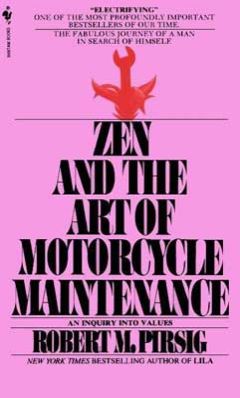Тогда, определив природу геометрических аксиом, он обратился к вопросу: какая геометрия истинна — Эвклида или Риманна?
И ответил: Вопрос лишен смысла.
С таким же успехом можно спросить: является ли метрическая система мер истинной, а система «эвердьюпойс»[17] — ложной? является ли картезианская система координат истинной, а полярная — ложной? Одна геометрия не может быть более истинной, чем другая. Она может быть только более удобной. Геометрия не истинна, она выгодна.
Пуанкаре затем перешел к демонстрации условностной природы других понятий науки — вроде пространства и времени, показывая, что нет какого-то одного способа измерения этих сущностей, более истинного, чем другой: то, что принимается общим согласием, может быть просто-напросто удобнее.
Наши концепции пространства и времени — тоже определения, избранные на основе их удобства при обращении с фактами.
Такое радикальное понимание наших самых основных научных понятий, тем не менее, еще не полно. Тайна того, что есть пространство и время, может стать понятнее при помощи этого объяснения, но теперь бремя поддержания порядка вселенной покоится на «фактах». Что такое факты?
Пуанкаре подошел к исследованию фактов критически. Какие факты вы собираетесь наблюдать? — спросил он. Их — бесконечное множество. У недифференцированного наблюдения фактов — не больше шансов стать наукой, чем у мартышки за пишущей машинкой — сочинить «Отче Наш».
То же самое относится и к гипотезам. Какие гипотезы? — писал Пуанкаре. «Если явление допускает одно полное механическое толкование, оно допустит и бесконечное множество других, которые в равной степени хорошо будут описывать все особенности, выявленные экспериментом.» Это суждение Федр вынес в лаборатории; оно поднимало вопрос, из-за которого его выперли из школы.
Если бы у ученого в распоряжении имелось бесконечное время, говорил Пуанкаре, необходимо было бы только сказать ему: «Смотри и замечай хорошенько»; но поскольку нет времени видеть все, и лучше не видеть вообще, чем видеть неверно, ему необходимо сделать выбор.
Пуанкаре разработал некоторые правила: Существует иерархия фактов.
Чем более общ факт, тем он дороже. Те, что могут послужить много раз, лучше тех, у которых мало шансов возникнуть вновь. Биологи, например, не знали бы, как им построить науку, если бы существовали только особи, а видов бы не было, и если бы наследственность не делала детей похожими на их родителей.
Какие факты могут возникать снова и снова? Простые. Как их узнать? Выбирай те, которые кажутся простыми. Либо эта простота реальна, либо сложные элементы неразличимы. В первом случае мы, скорее всего, встретим этот простой факт снова — либо в одиночестве, либо как элемент сложного факта. У второго случая тоже есть хорошие шансы возникнуть снова, поскольку природа не конструирует такие случаи наобум.
Где находится простой факт? Ученые искали его в двух противоположностях — в бесконечно большом и бесконечно малом. Биологов, например, инстинктивно подводили к оценке клетки как тому, что интереснее целого животного, а со времен Пуанкаре белковую молекулу считали интереснее клетки. Последствия показали мудрость такого подхода, поскольку клетки и молекулы, принадлежащие различным организмам, как оказалось, более сходны, нежели сами организмы.
Как тогда выбрать интересный факт — тот, что начинается снова и снова? Метод — именно такой выбор фактов; следовательно, необходимо сначала создать метод; и много их выдумали, поскольку ни один не возникает сам по себе. Начинать следует с регулярных фактов, но после того, как правило установлено безо всякого сомнения, факты, соответствующие ему, становятся скучными, поскольку больше ничему новому нас не учат. Тогда важным становится исключение. Мы ищем не подобий, но различий, выбираем наиболее выраженные различия, поскольку они самые показательные и самые поучительные.
Сначала ищем случаи, в которых это правило имеет наибольший шанс не сработать; заходя очень далеко в пространстве или во времени, мы можем найти, что правила наши полностью перевернуты, и эти значительные перевороты позволяют лучше видеть те маленькие перемены, что могут происходить ближе. Но в меньшей степени следует нацеливаться на удостоверение сходств и различий, нежели на узнавание подобий, скрытых под очевидными расхождениями. Сначала кажется, что отдельные правила не согласуются, но при более пристальном взгляде мы видим в общем, что они сходны друг с другом; различные в сущности, они сходны по форме, порядку своих частей. Когда мы смотрим на них под таким углом, то видим, как они увеличиваются; у них возникает тенденция охватывать собой все. И именно это делает определенные факты ценными: они завершают картину и показывают, что та верно изображает другие известные картины.
Нет, заключал Пуанкаре, ученые не выбирают наобум факты, которые наблюдают. Ученый стремится сконденсировать много опыта и много мысли в томик как можно тоньше; вот почему маленькая книжка по физике содержит так много прошлых опытов и в тысячу раз больше — возможных опытов, чей результат известен заранее.
Потом Пуанкаре дал иллюстрацию того, как обнаруживается факт. Он описал в общем, как ученые приходят к фактам и теориям, и — уже узко и целенаправленно — проник в собственный опыт с открытием математических функций, упрочивших его раннюю славу.
Пятнадцать дней, рассказывал он, он пытался доказать, что никаких таких функций не может быть. Каждый день усаживал себя за рабочий стол, просиживал так час или два, пробовал огромное количество комбинаций и не достигал никаких результатов.
Затем, однажды вечером, наперекор всегдашней привычке, он выпил черного кофе и не смог уснуть. Идеи возникали толпами. Он чувствовал, как они сталкивались, пока не начали замыкаться пары, образуя устойчивые комбинации.
На следующее утро ему пришлось только записать результаты. Имела место волна кристаллизации.
Он описал, как вторая волна кристаллизации, управляемая аналогиями с установленной уже математикой, произвела на свет то, что он позднее назвал «Тэта-Фуксианской Серией». Он уехал из Кэна, где жил, в геологическую экспедицию. Разнообразие путешествия заставило его забыть о математике. Он собирался войти в автобус, и в тот момент, когда поставил ногу на ступеньку, к нему пришла идея — причем, ничто из его предыдущих мыслей не готовило ее, — что трансформации, использовавшиеся им для определения Фуксианских функций, идентичны трансформациям неэвклидовой геометрии. Он не стал проверять эту мысль, рассказывал он, а просто продолжал автобусный разговор; но у него возникла совершенная уверенность. Позднее, на досуге, он проверил результат.
Следующее открытие произошло, когда он гулял по обрыву над морем. Оно пришло с теми же самыми характеристиками — краткостью, внезапностью и немедленной уверенностью. Другое крупное открытие случилось, когда он шел по улице. Люди превозносили этот его процесс мышления как таинственные труды гения, но Пуанкаре не довольствовался столь мелким объяснением. Он пытался глубже промерять происходящее.
Математика, говорил он, — не просто вопрос применения правил не больше науки. Она не просто делает возможными большинство комбинаций согласно определенным установленным законам. Комбинации, полученные таким образом, весьма многочисленны, бесполезны и громоздки. Подлинная работа изобретателя состоит в выборе из этих комбинаций так, чтобы исключить бесполезные или, скорее, избежать хлопот по их выработке, а правила, которые должны направлять выбор, исключительно тонки и нежны. Почти невозможно установить их точно; они должны быть скорее почувствованы, чем сформулированы.
Пуанкаре затем выдвинул гипотезу: этот выбор делается тем, что он назвал «подсознательным я», сущностью, точно соответствующей тому, что Федр называл «доинтеллектуальным осознанием». Подсознательное я, говорил Пуанкаре, смотрит на большое число решений проблемы, но только интересные вламываются в сферу сознания. Математические решения избираются подсознательным я на основе «математического прекрасного», гармонии чисел и форм, геометрической элегантности. «Это — подлинное эстетическое чувство, знакомое всем математикам, — говорил Пуанкаре, — но непосвященные о нем настолько не осведомлены, что часто поддаются соблазну улыбнуться.» Но именно эта гармония, эта красота и есть центр всего.
Пуанкаре совершенно ясно дал понять, что не говорит о романтической красоте видимостей, которая трогает чувства. Он имел в виду классическую красоту, возникающую из гармоничного порядка частей, которую может ухватить чистый разум, которая придает структуру романтической красоте и без которой жизнь была бы лишь смутна и мимолетна — сном, от которого невозможно было бы отличать сны, поскольку для такого различения не существовало бы основы. Поиск этой особой классической красоты, ощущение гармонии космоса заставляет нас избирать факты, наиболее подходящие для того, чтобы внести что-то в эту гармонию. Не факты, но отношение вещей приводит к универсальной гармонии, которая есть единственная объективная реальность.