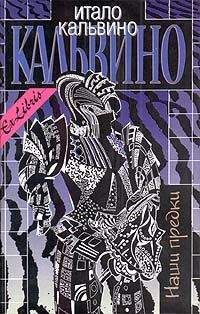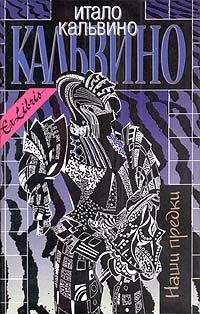Мы пожаловались Бидзантини на их поведение этой ночью, и тут он явно хватил через край, обнаружив откровенное раздражение, которое объяснялось враждой между руководителями «Джовинеццы» нашего города и областного центра, которым являлся N., враждой, родившейся из иерархических разногласий.
– А что вы хотите, – сказал он, – вы же видите, с кем имеете дело? Да и кого еще могут прислать из N.! Разве это молодежь? Разве хоть один из них занимался когда-нибудь спортом? Только посмотрите на них – скривились, как крючки, тощие, длинные, какие-то кособокие!
Он, конечно, преувеличивал, но все же был недалек от истины. Их, бесспорно, нельзя было назвать атлетически сложенными парнями, хотя, по правде говоря, я тоже был не атлет и поэтому несколько обиделся за них на иронию Бидзантини.
– Портовые грузчики, землекопы дохнут там у себя с голоду, – тихо пробормотал Бьянконе. – Приехали сюда, чтобы получить те несчастные гроши, которые им платят за день, и не работать…
Чем дальше я слушал Бьянконе, тем сильнее чувствовал, как бледнеют мои недавние обиды и все явственнее звучат в душе те нравственные правила, в которых я был воспитан и которые учили противостоять всем презирающим бедных и людей труда.
– И при всем том, что наш режим делает для народа… – продолжал Бидзантини.
«Для народа… – думал я. – Да народ ли эти допризывники? И каково народу, хорошо или плохо? Неужели он предан фашизму, этот народ? Народ Италии… А я, кто я?»
– …они плюют и на «Джовинеццу» и на все!
– И я тоже! Я тоже плюю! – прошептал я Бьянконе, стоявшему рядом со мной.
– Но инспектор все это заметил, он сразу увидел, что мы привезли только учащихся, хорошо одетых, хорошо сложенных, воспитанных…
– Дерьмо, – вполголоса сказал я Бьякконе. – Вот дерьмо!
– Он сказал, что нас поставят на самом виду, в первой шеренге… перед испанцами… перед молодежью каудильо…
Колонна допризывников давно прошла. Бидзантини продолжал свою речь, а я продолжал думать о своем: возможно, мы останемся в Ментоне еще на день, в этом случае мне хотелось, чтобы Бьянконе сходил вместе со мной поглядеть на разграбленные дома.
– Как только нас отпустят, идем вместе, – шепнул я ему.
Он подмигнул мне, так как даже после команды «вольно» стоял как истукан.
Центурион продолжал кричать, излагая нам свою философию. Теперь он взялся сравнивать воспитание молодежи при Муссолини со старым воспитанием.
– …Потому что вы выросли в атмосфере фашизма, а не знаете, что это значит. Вот окажись, например, вчера вечером здесь в Ментоне ваши прежние учителя, как бы они разохались! «Да боже мой! Они ведь дети! Как же можно заставлять их ночевать не дома? Слыханное ли дело? Тут даже кроватей нет! А кто будет отвечать? А что скажут их родители? Ах! Ах!» Для нас, фашистов, все – раз, два, и готово! Никаких трудностей! Напролом! Римское воспитание. Как в Спарте! Нет кроватей? Спи на полу. Все солдаты, черт побери! Напра-во!
Словом, наш центурион показывал себя сейчас тем, кем был – наивным простаком, хуже любого из нас: перед бандой наглых сорванцов, истинных висельников, которые не могли дождаться той минуты, когда можно будет броситься грабить город, он расчувствовался, как добрая бабушка, и из-за чего? Из-за того, что заставил нас пережить захватывающее приключение – переночевать одну ночь не дома!
Бьянконе знал об одной вилле, расположенной неподалеку, вилле, куда он еще не заглядывал, но где, по словам тех, кто там побывал, довольно много интересного. В саду распевали птички, в бассейн по капле стекала вода. Сероватые листья большой агавы были исцарапаны во всех направлениях именами, названиями деревень, полков, вырезанными штыками. Мы обошли вокруг виллы, она оказалась наглухо заколоченной, однако, зайдя на одну террасу, усыпанную осколками битого стекла, мы обнаружили дверь, сорванную с петель, и вошли в гостиную, где стояли сдвинутые со своих мест и засыпанные мелкими фарфоровыми осколками кресло и софа. Первые грабители, роясь в шкафчиках в поисках серебра, отшвыривали в сторону фарфоровые сервизы, они выдергивали из-под мебели ковры, опрокидывая столы и стулья, которые валялись сейчас вокруг в хаотическом беспорядке, словно после землетрясения. Мы проходили по комнатам и коридорам, темным, если на окнах сохранились ставни, и залитым солнцем, если они были распахнуты или сорваны с петель, и на каждом шагу натыкались на всевозможные предметы, лежавшие где попало или раскиданные по полу и растоптанные сапогами, – трубки, женские чулки, подушки, игральные карты, электрический провод, журналы, люстры. Ничто не ускользало от взгляда Бьянконе, он отмечал самые незначительные детали и мгновенно связывал одно с другим; поднимая с полу ножку от разбитой рюмки или лоскут оторванной от мебели обивки, он наклонялся с таким видом, будто мы находимся в оранжерее и он показывает мне цветы; после этого он легким, точным движением, как сыщик, осматривающий место преступления, клал каждый предмет на прежнее место.
По мраморной лестнице, заляпанной грязными следами, мы поднялись на второй этаж и оказались в комнатах, сплошь заваленных тюлем и газом.
Когда-то это были тюлевые пологи и балдахины, висевшие, как видно, над каждой кроватью. Те, что ворвались сюда первыми, сорвали их и разодрали на куски. Сейчас весь этот тюль с оборками и воланами пышной, волнистой мантией покрывал полы, кровати и комоды. Эта картина очень нравилась Бьянконе, он расхаживал по комнатам, осторожно, двумя пальцами убирая с дороги воздушные полотнища.
В одной из спален мы услышали какую-то возню. Похоже было, будто какое-то большое животное копошилось под тюлевым покрывалом.
– Кто идет?
Это был Дуччо, авангардист из нашего отделения, мальчишка лет тринадцати, маленький, толстый и красномордый.
– Ох, и барахла тут!.. – сказал он с подавленным вздохом, продолжая рассеянно рыться в комоде.
Он вытаскивал из ящиков все, что попадало под руку, ненужное бросал на пол, а то, что казалось ему подходящим: подвязки, носки, галстуки, щетки, полотенца, баночку с бриллиантином, пихал за пазуху. Делал он это с таким усердием, что куртка его надулась на груди круглым как мяч горбом, а он все продолжал заталкивать туда шарфы, перчатки, подтяжки. Он весь раздулся, стал грудастым, как голубь, но, судя по всему, не собирался прекращать свое занятие.
Мы больше не обращали на него внимания: до нас отчетливо донеслись звуки, похожие на удары молотка, гулко раздававшиеся где-то над нами.
– Что это? – спросили мы.
– Да ничего, – ответил Дуччо. – Это Форнацца.
Мы пошли на шум и, поднявшись на следующий этаж, оказались в некоем подобии сводчатого коридора, где авангардист Форнацца, мальчишка примерно такого же роста, как Дуччо, но только худой и чернявый, с копной вьющихся волос на голове, орудуя молотком и отверткой, отламывал что-то от старинного шкафа.
– Что ты делаешь? – спросили мы.
– Мне вот эти штучки нужны, – ответил он и показал нам металлические розетки. – Две я уже отломал…
Мы предоставили обоим заниматься своим делом и снова пошли бродить по дому. Забравшись на чердак, мы через слуховое окно вылезли на маленькую площадку, укрепленную под коньком крыши. Под нами лежал сад, за ним – зеленая зона, опоясывавшая Ментону, оливковые рощи и в самой глубине – море. На площадке лежало несколько промокших от дождя, свалявшихся подушек. Мы разложили их около высокой радиоантенны, развалились на солнышке и закурили, наслаждаясь покоем.
Небо было чистое, проползая над антенной, белые ленты облаков казались развевающимися по ветру флагами. Снизу долетали усиленные тишиной пустынных улиц редкие голоса, которые мы сразу узнавали. Вот это Черетти, который вышел на промысел, а это чем-то рассерженный Глауко. Сквозь перильца, ограждавшие площадку, мы наблюдали за авангардистами и молодыми фашистами, рыскавшими по городу: небольшая группа, горланя, сворачивала за угол; в окне одного дома показались двое неведомо как очутившихся там авангардистов, – высунувшись наружу, они пронзительно свистели; в узком просвете между деревьями появилась выходившая из бара оживленная компания наших офицеров, толпившихся вокруг инспектора. Дальше виднелось ослепительно блестевшее под солнцем море.
– А почему бы нам не искупаться?
– Пошли?
– Пошли.
Мы сбежали вниз и двинулись по дороге, ведущей к морю. За парапетом приморской улицы, на узкой полосе усыпанного камнями песчаного пляжа, обедала группа полуголых каменщиков, они сидели на самом солнцепеке, передавая из рук в руки оплетенную бутылку.
Мы разделись и растянулись на песке. У Бьянконе была удивительно белая кожа, на которой ясно выделялись многочисленные родинки; по сравнению с ним я казался черным и худым. Пляж был грязный: его совсем завалили водоросли всех видов – колючие, похожие на бурые шары и на мокрые серые бороды. Чтобы увильнуть от купанья, Бьянконе высмотрел на небе облачко, которое будто бы должно было закрыть солнце, но я, вскочив, бросился в воду, и ему ничего не оставалось, как последовать за мной. Солнце действительно скрылось, и стало немного грустно плыть по белесой, как рыбье брюхо, воде, смотреть на булыжную стену дамбы, нависшую над нами, и на молчаливую Ментону. На гребне мола показался солдат с винтовкой и в каске и стал кричать нам, что здесь запретная зона и что мы должны вернуться на берег. Мы поплыли обратно, вытерлись, оделись и пошли за своим пайком.