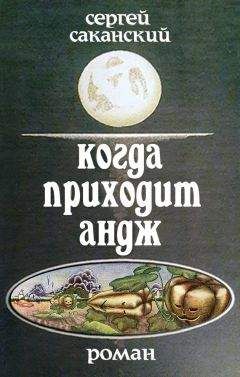Однажды Стаканский обнаружил под подушкой паука. Это было крупное, с кулак величиной, чернобурое существо, медленно перебирающее ногами. В тот день дедушка как раз вернулся из среднеазиатской командировки, где мучил и умерщвлял непокорных азиатов, и Стаканский подумал, что зловещее насекомое совершенно случайно могло заползти в багаж.
Он расправился с пауком при помощи учебника арифметики, захлопнув его меж десятичных дробей, тщательно проверил постель, завернулся в одеяло и, проонанировав, уснул, забив во сне еще несколько хрустящих каракуртов, а наутро, когда дед в майке и трусах, волосатый, пришел посмотреть его, Стаканский впервые заметил, как поразительно похож он на паука.
Одним субботним вечером дед, или паук, как он теперь его мысленно называл, пришел с работы веселый, долго плескался в ванной, напевая, затем предложил Стаканскому поехать до завтра на дачу, вдвоем.
По дороге они разговаривали, вечером играли в шахматы, что также было весьма странным, а на рассвете пошли в ближний сосновый бор за грибами — солнце обладало звонкими полянами, культивируя над травой сонмы сверкающих жуков, рослые грибы радостно прыгали в корзины, паук был необычайно весел, хохотал в небо и призывно аукал издали бабьим голосом.
Они вернулись домой, и паук сразу принялся обрабатывать грибы.
— Гъбы! Гъбы! — приговаривал он, почему-то по-болгарски, с редуцированной гласной.
Стаканский ужасно хотел есть, он увивался вокруг чугунка в клубах аппетитного пара, подбрасывая в огонь самые сухие и тонкие поленья, чтобы ускорить процесс. Он нарвал в огороде зелени: сочнозеленый лук с капельками сока на срезах, молодой чеснок, продирающий горло до слез, упругий редис пионерской раскраски, росистые пупырчатые огурцы, хранящие внутри вакханалию хруста, нежнейший укроп, стройная петрушка с пикантной горчинкой, опальный пастернак, таинственная кинза, именуемая меж взрослыми «ебун-трава», — паук одобрительно следил за работой внука, и мир был переполнен сладострастным бульканьем изумительного варева.
— Ну-с, молодой человек! Готовьте миски, — известил наконец паук, и Стаканский опрометью бросился к буфету.
— Однако… — паук озадаченно заглянул в карманные часы-луковку. — Мне необходимо сделать звонок в управление, ровно в двенадцать.
Он вышел и через несколько минут вернулся, грустный, с глубоким сожалением посмотрел на жарко блестящие миски.
— Придется тебе одному побаловаться тут супом, внучек, — печально сказал он, на ходу натягивая галифе на все десять своих черноволосых ног. — Срочная работа, — пояснил он, покрутив растопыренными руками в воздухе, как бы шутливо изображая свою работу, и уже в дверях, потянув носом вкусный воздух, два раза с грустью кивнул:
— Гъбы! Гъбы!
Оставшись один, Стаканский медленно подошел к плите, снял с чугунка крышку и долго разглядывал варево, затем, приняв решение, щелкнул пальцами и выбежал во двор.
У Котельной, под угольной горой возился чумазый мальчик Вит. Это был классический золотушный мальчик, с большими ушами, тонкими ручками, с расширенными от ужаса глазами, представитель многодетной семьи Честяковых, что обитала на другом берегу Шумки, в бараке для обслуги. Богатые энкаведисты трогательно помогали этим детям, давали работу, что-то из старой одежды, подкармливали. Стаканский и решил этого мальчика подкормить.
— Суп! — важно сказал он, подняв палец.
— Суп, — в другом тембре повторил Вит.
Мальчик был вонючий и грязный. «Суп! Суп!» — приговаривал он, опорожняя миску за миской. Стаканский сидел напротив, внимательно за ним наблюдая и тоже закусывал — черным хлебом с подсолнечным маслом, сочнозеленым луком, молодым чесноком, упругим редисом пионерской раскраски, пупырчатыми огурцами, нежнейшим укропом, опальным пастернаком и таинственной кинзой.
Насытившись и рыгнув, Вит сполз на пол, его живот волочился, как у беременной суки, а ночью он умер в страшных мучениях, и когда старший Честяков выламывал ему пальцы и бил по грудянке, выпытывая, что он такое съел, мальчик, уходя, мог вспомнить лишь одно страшное слово, с умершей уже гласной, затихающе повторяя:
— Съп! Съп!
Часто потом этот золотушный мальчик являлся Стаканскому в кошмарах, синий, подтягиваясь на руках из-под кровати, с ужасом, с удивлением шепча: Съп! Съп! — и странное дело: призрак со временем набирался возраста, сначала вытянулся и запрыщавел, затем превратился в красивого луноликого юношу, десятки лет посещал жертву зрелым мужчиной, занашивая и меняя костюмы, а к старости стал носить толстые двойные очки, и наконец исчез, отпустил, вероятно — умер… А тогда, на следующее ненастное утро — ливень, ветер, растут в лесу новые бледные поганки, гъбы — когда паук вернулся, чтобы посмотреть внука, Стаканский весело хлопнул ему синими глазами из-под одеяла, натянутого на нос, и с этого момента игра повелась в открытую, паук плел все более узорчатые, изощренные сети: вот он пытается заманить его то на лодочную прогулку в Гидропарк, то в увлекательное вертикальное путешествие на Чертовом Колесе… Мальчик ест только то, что опробовано бабулей, он выбирается ночью из окна и спит на крыше пристройки…
Однажды в доме появляется новый друг семьи, доктор из органов, он все чаще бывает вечерами, все больше пьет, сблевывая излишки в унитаз, мальчик понимает, какая ему уготовлена участь — теперь паук может умертвить его любым способом, от петли до пули — верный лекарь сфабрикует какую угодно бумагу… Стаканский решается, наконец, нанести ответный удар, в пределах необходимой самообороны, полностью в духе эпохи.
Через несколько часов после того, как он бросил в почтовый ящик маленький треугольный конверт, поздней ночью в дверь тихо, очень корректно, но в то же время торжествующе — постучали.
Паук сразу понял, кто это и зачем, потому что только вчера, на другом конце города, на Сырце, борясь за распределение материальных благ жизни, он делал то же самое. Несколько человек бодро вошли и перетряхнули весь дом. Они расколотили цветочные горшки и фарфоровые сервизы, отстегали широким ремнем маленького Стаканского, изнасиловали бабулю, связали пауку все десять его ножек, взвалили на плечи и унесли.
Стаканский вышел на улицу. Медленно падал снег, исчезая на теплой мостовой, здания с той же скоростью плыли вверх, наглядно демонстрируя относительность вещей. Какой-то человек, осторожно ступая по брусчатке, спускался на Подол. Стаканский двинулся за ним, сердце его забилось.
Человек этот был невысокого роста, широкоплеч, одет в долгополую, хорошего сукна шинель. Вот он повернул голову, поглядел в проулок, Стаканский заметил трубку с колечком дыма и окончательно узнал его. Это был Сталин.
Он обогнул огромный сахарный особняк, недовольно осмотрев его узорчатые карнизы, и свернул в Даев переулок. Стаканский внимательно огляделся по сторонам: охраны не было. Стаканский машинально хлопнул себя по груди и, ощутив под драпом твердый предмет, удовлетворенно хмыкнул. Тем временем Сталин вышел на Сретенку и, секунду поколебавшись, поднял воротник и двинулся вниз, к Лубянской площади. Снег усилился, потянуло промозглым ветром. Стаканский расстегнул верхнюю пуговицу пальто. В то время он как раз занимался альпинизмом и всегда в петле под мышкой носил с собой маленький ледоруб… Металл был гладок и холоден. Стаканский осторожно высвободил ледоруб из петли и, подбросив его, жестом индейца цепко схватился за древко. Сталин обернулся и, увидев идущего на него убийцу, тонко взвизгнул, кинулся трубкой, нырнул под арку, придерживая полы шинели. Стаканский ринулся за ним и оказался в маленьком тупиковом дворе. Пахло рыбой. Сталин стоял у кирпичной стены и, часто дыша, глядел тускло. Стаканский подошел, склонился над ним, как огромный Каменный Гость, медленно вонзил ледоруб в самую середину темени и с волнением увидел, дунув и распушив седые волосы, темнокрасной улыбкой из детства глядящую на него — Пробитую Голову.
На этом-то детство и было закончено. Не заходя домой, Стаканский отправился на вокзал, сел в первый попавшийся поезд, несколько дней его носило по стране сквозь мартовские метели, пока наконец не забросило в Санск.
Городок приглянулся ему: здесь была замешана Европа и Азия, провинция и столица, женщины глазели на него, что приятно волновало, он поужинал с темнокрасным вином и видом на нижнюю часть города (которую мысленно окрестил Пальмирой) и спустился к реке, вернее, маленькой извилистой речушке посреди города, где-то вдали впадавшей в Оку, сел, шлепнул на лбу комара и увидел на соседней лавочке женщину.
— Есть у вас огонь, молодой человек? — осведомилась она, вопросительно поведя в воздухе папиросой.
Стаканский проворно подошел и подал. Пламя осветило немолодое, невероятно красивое лицо.