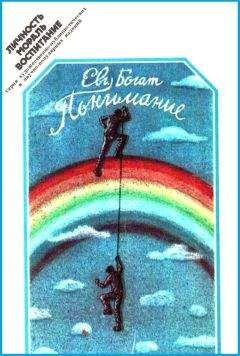Они опять душевно соединились, будто бы и не было долгих десятилетий разлуки и забвения.
Теперь мне хочется вернуться к соображению, которое было высказано мимоходом в письме к Жеравиной одной из ее подруг. Я имею в виду мысль о потенциале личности, который выше возможностей выявления.
Мне кажется, что нравственный этот потенциал должен быть и выше поступков. Он может совпадать, а может и не совпадать с тем, что мы называем «местом человека в жизни». Но, не совпадая, должен он быть выше этого «места», а не ниже его, чтобы окружающие люди ощущали «заряженность» личности большими мыслями и чувствами даже тогда, когда она занимает «скромное положение»… Этот нравственный потенциал не может не украшать человеческие отношения. И он должен их постоянно воскрешать, если вдруг оказывается, что люди разошлись, забыли, стали непонятно чужими друг другу.
Мысли о нравственном потенциале оказались одними из самых важных для Жеравиной после опубликования очерка, писем, которые она затем получила.
Будучи человеком непосредственным, она мне написала (в том неотправленном письме):
«Высота нравственного потенциала зависит не только от себя самой, но и от моральной атмосферы, от окружения. Даже я, казалось бы, уже полностью сложившийся человек, бываю разной в зависимости от того, с кем нахожусь. Порой мой „потенциал“ поднимают самые незначительные, даже малосущественные вещи. Вот я девятого мая в Ленинграде возвращалась в электричке с Пискаревского кладбища. Народу было много. В этот день всем хотелось почтить память погибших героев. В электричке было страшно тесно, и тут встал мужчина и, как-то застенчиво улыбнувшись, уступил мне место. Пустяк? Ну, конечно же пустяк! Но вслед за ним встали, уступая места женщинам, его два мальчика, лет семи и восьми, а потом и все остальные мужчины, большие и „маленькие“. И если бы Вы видели, как потеплела от этого публика, как хорошо и радостно стало в вагоне. Как будто от всех людей пошли какие-то добрые токи. И стало видно, что это хорошие люди. А ведь началось с мелочи, о которой даже и говорить-то неловко: мужчина уступил место женщине. И вот поверите ли мне, когда я вышла из вагона, мой „нравственный потенциал“ стал выше».
…Да, она разделила письма на три пачки. Особенно ранило Жеравину одно письмо — коллеги но лекционной работе:
«Я месяц была под впечатлением этого письма, — рассказывала потом Жеравина, — не могла отойти от него, думала о нем по ночам, мне в Ленинграде надо было работать в архивах, а я — не могу».
«Тебя не может не волновать, — писала ей коллега, — как встретили у нас в научном обществе твои письма в „ЛГ“. Отнеслись к ним без особого восторга. Сама статья мне показалась не очень искренней, может быть, ты ее восприняла иначе, потому что хотела передать выстраданное и вымученное. Но о таком, по-моему, надо писать самой, чтобы были только твои мысли и наблюдения, а не чужая их интерпретация и морализирование на их основе. Хочу успокоить тебя: разговоров было немного и не особенно долго. Хотя, к сожалению, мне довелось услышать и резкие отзывы…
Хорошо, что статья появилась без тебя. Если тебе важно узнать мое мнение о ней, то мне кажется, что она тебя не украсит. Я восприняла ее с двойственным чувством; вроде бы все имеет смысл и соображения разные вызывает, но сама бы я не хотела быть героиней такой статьи».
Это письмо беспощадное, несмотря на его лукаво-щадящую форму. Суть беспощадности в том, что в человечнейшем чувстве — в желании искупить вину перед теми, о ком она на долгие годы забыла, поблагодарить их за все добро, которым они ее одарили когда-то, усматривается расчет: сладостно пощекотать собственное самолюбие и тщеславие, восславить себя самое.
Тот, кто написал это письмо, не одаряет, а отнимает — отнимает уверенность в себе, в собственных чувствах. Он наносит удар в самое уязвимое место, подвергая сомнению мотивы, которые руководили Жеравиной, написавшей доверчиво и откровенно… Потому что мотивы, скрытые глубоко в человеческой душе, на поверхности не лежат и при желании в них удобно не поверить.
Чтобы человеку поверить, надо заглянуть ему в душу, а это не только нелегко, но даже и рискованно: ведь можно убедиться, что душа его богаче твоей. Чтобы поверить, нужны великодушие и благородство.
Рассказ об откликах, которые вызвала публикация очерка «Полчаса перед сном» мне хочется закончить письмом бывшего секретаря горкома КПСС города Томска Ивченко Е. В., теперь она на пенсии, когда-то Анна Георгиевна Жеравина ходила к ней «посоветоваться», а потом они подружились.
В этом письме как бы растворена мысль Маркса о том, что для человека коммунистического будущего чувства и наслаждения других людей станут его собственным достоянием и то, что письмо написано сегодняшним человеком, нашим современником, особенно важно.
«Я понимаю, — писала она Жеравиной, — сколь Вы взволнованы по поводу этой публикации. Но это должно быть волнением-радостью, волнением — исполнением долга. Вы напомнили нам о вечной силе человеческой доброты и вечном долге помнить доброту, быть благодарным за нее, сеять доброту и побеждать зло. Сознаюсь, что читала очерк и плакала (может возникнуть мысль, что Жеравину окружают весьма сентиментальные люди: читают и плачут, но это не сентиментальность, это открытие в себе самих того, что, казалось, поросло „травой забвения“. — Авт.). Может быть, Ваша судьба созвучна каким-то частицам того, что есть в каждом из нас. Вы никак не должны тревожиться, что вокруг напечатанного могут возникнуть какие-нибудь недобрые толкования. Большинство читателей Вас поймет, кто-нибудь вспомнит забытого человека, кто-нибудь вспомнит, что дала ему Родина, семья, школа…»
Анна Георгиевна Жеравина любит писать письма и любит их получать, радуется пониманию, горестно переживает непонимание.
В последнем письме ко мне она говорит:
«Мне почему-то все время кажется, что в жизни должно совершиться что-то важное, большое, о чем я могла бы с интересом Вам написать. И я жду этого события, откладываю письмо. Но, видимо, не нужно ждать событий, иначе можно никогда и не написать о том, что думаешь сегодня, чем живешь».
Мне хотелось, получив эти строки, ответить Жеравиной, что существует душевная событийность человеческой жизни и все ее письма этой событийностью насыщены.
Нередко человек духовно бедный воображает себя яркой и крупной личностью, чьи мысли и переживания важны и интересны всем. С Анной Георгиевной Жеравиной все наоборот. Ей все время кажется: то, что она переживает и думает, неинтересно и незначительно, и писать об этом не нужно, хотя любая книга, любая встреча, любая поездка, любое полученное письмо — для нее событие. И лишь сейчас, через несколько лет после публикации очерка «Полчаса перед сном» я понял показавшуюся мне странной поначалу строку из письма к ней ее коллеги: «Жму руку за гражданское мужество». Я понял, чего стоило Жеравиной мне написать то самое письмо, из которого и родился очерк.
Известная формула: «надо писать лишь тогда, когда не можешь не писать» имеет, наверное, силу по отношению не только к писателю, но и к читателю.
А. Г. Жеравина написала мне именно потому, что не написать о том, что переполняет ее сердце, она не могла…
Первый назидательно-педагогический диалог
«В последний раз я видела ее одиннадцать лет назад, 14 марта 1968 года. Я, помню, подарила ей — был день ее рождения — самые дорогие духи и большой букет цветов; обычно мы делали более скромные подарки. При воспоминании об этих духах сегодня почему-то особенно стыдно…»
(Из письма Елены Константиновны Рощиной.)
14 марта 1968 года в доме у Пелагеи Георгиевны Федорович было по-именинному шумно и весело — собрались почти тридцатилетние мужчины и женщины, которых она когда-то учила читать и любить Пушкина, Лермонтова, Толстого, Чехова.
За столом беспрерывно шутили: школьные воспоминания, даже и не дающие повода для веселья, — получение двоек, неудачное сочинение, переэкзаменовка — были теперь источником радостных воспоминаний, может быть, потому, что почти у всех, кто сидел рядом со старой учительницей, жизнь складывалась более или менее удачно. За плечами остались университеты, институты, техникумы, увлекала работа, радовала жизнь, молодая семья или ожидание ее…
Пелагея Георгиевна ужо не работала в школе, получала пенсию, но в доме ее толпилась молодежь постоянно. Казалось, молодые остались в ее жизни навсегда: она помогала им при поступлении в институты, потом при выборе работы и даже иногда (хотя избегала этого) при выборе жены или мужа.
Лена Рощина веселилась с остальными и даже, может быть, чуть больше, чем «мальчики и девочки», собравшиеся в этот день у старой учительницы, чтобы поздравить ее с шестидесятидевятилетием. Все немножко выпили, языки развязались, и одна из «девочек» (двадцатисемилетних!) в разгар веселья обратилась к Лене через весь стол: